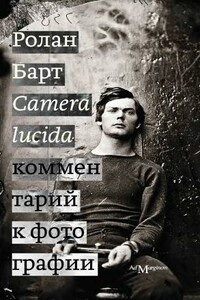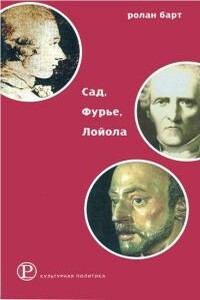Империя знаков | страница 29
Когда говорят, что шум прыгающей лягушки пробудил Басё к истине Дзен, то надо понимать (хотя это и будет еще слишком западной манерой выражаться), что Басё нашел в этом звуке не какой-то мотив «озарения» или символического подъема всех чувств, но скорее предел языка: существует момент, когда язык прерывается (это состояние достигается посредством усиленных упражнений), как раз на этом беззвучном разрыве зиждется и истина Дзен, и краткая, пустая форму хокку. Отрицание «разворачивания» носит здесь радикальный характер, ибо нет речи о том, чтобы останавливать язык на моменте тяжелой, глубокой, мистической тишины или в пустоте души, открывающейся для общения с Богом (в Дзен нет Бога); то, что полагается, не должно разворачиваться ни в речи, ни в конце речи; то, что полагается, непрозрачно, и нам остается лишь повторять это вновь и вновь. Именно это и рекомендуется практикующему, который работает над коаном (или же притчей, предложенной ему учителем): нужно не разгадать его, как если бы он имел скрытый смысл, и даже не проникнуться его абсурдностью (которая все еще остается смыслом), но бесконечно его пережевывать, «до тех пор пока не сплюнешь зуб». Таким образом весь Дзен, литературным ответвлением которого является искусство хокку, предстает как мощная практика, направленная на то, чтобы остановить язык, прервать эту своего рода внутреннюю радиофонию, которая непрерывно вещает в нас, даже когда мы спим (быть может, именно поэтому практикующим запрещается засыпать), опорожнить, притупить, иссушить ту неудержимую болтовню, которой предается душа; и, быть может, то, что в Дзен называется сатори и что на Западе могут перевести лишь приблизительными христианскими соответствиями (просветление, откровение, прозрение), есть лишь тревожная подвешен-ность языка, белизна, стирающая в нас господство Кодов, слом того внутреннего говорения, которое конституирует нашу личность. И если это не-языко-вое состояние предстает освобождением, то потому, что в буддистском опыте размножение мысли (мысль о мысли), или, если угодно, бесконечное прибавление избыточных означаемых — круг, моделью и носителем которого является сам язык — предстает как препятствие: уничтожение же вторичной мысли, напротив, разрывает дурную бесконечность языка. Похоже, во всех этих экспериментах речь идет не о том, чтобы подавить язык таинственной тишиной несказанного, но о том, чтобы познать меру его, остановив тот словесный волчок, который вовлекает в свое вращение навязчивую игру символических замещений. В конце концов, атакуется сам символ как семантическая операция.