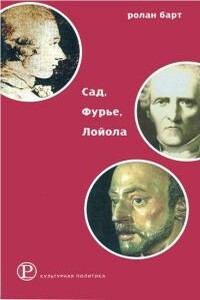Империя знаков | страница 21
ного в том, что он выходит за пределы своей гаммы) сопровождается толщей тишины, где с изяществом прорисовываются иные черты, иное письмо. И вот здесь-то и возникает неслыханная вещь: помимо голоса и почти без мимики две этих разновидности безмолвного письма — транзитивное и эмоциональное — порождают экзальтацию, подобную интеллектуальной гиперэстезии, производимой некоторыми наркотиками. Речь не очищена (ибо Бунраку не стремится к аскезе), но, если можно так сказать, сгруппирована сбоку от игры; субстанции, скрепляющие западный театр, растворяются: эмоции не захлестывают, не поглощают, они становятся чтением; стереотипы исчезают, и, между тем, спектакль не стремится к «находкам», не впадает в оригинальничанье. Понятно, что все это дает эффект дистанции, рекомендованный Брехтом. Эта дистанция у нас считается невозможной, бесполезной, никчемной, старательно избегаемой, хотя именно ее Брехт положил в основание революционной драматургии (и здесь одно объясняет другое); Бунраку же дает возможность понять, как эта дистанция функционирует: посредством прерывности кодов, посредством цезуры, прилагаемой к различным чертам представления. Таким образом, копия, вырабатывающаяся на сцене, не разрушается, но становится разбитой, изборожденной, подчиненной заражению метонимией между голосом и жестом, избавленной от метонимического смешения голоса и жеста, души и тела, которые слиты у нашего комедианта.
Будучи целостным, но разделенным, спектакль Бунраку, разумеется, исключает импровизацию: вернуться к спонтанности означало бы вернуться к стереотипам, на которых зиждется наша «глубина». Как это виделось и Брехту, здесь царит цитирование, щепотка письма, фрагмент кода, ибо ни один из создателей игры не может отнести исключительно к себе то, что никогда не пишется им одним. Как и в современном тексте сплетение кодов, отсылок, фактов, вырванных из контекста, антологических жестов умножает линию письма, не взывая к какой-либо метафизической реальности, но обращаясь к игре комбинаторики, которая раскрывается во всем театральном пространстве: то, что начинает один, подхватывает другой, и так далее, без остановки.
Письмо, таким образом, глухо к предписанию, ибо линия ведется и прерывается не глядя (отнюдь не лицом к лицу; оно изначально отсылает не к видению, но к ведению), разделяя бумагу на отсеки, как бы напоминая тем самым о той множественной пустоте, в которой она рождается