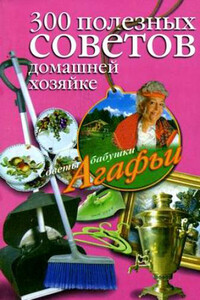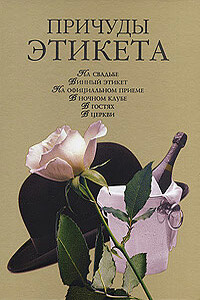Между нами мужчинами | страница 80
Но на каком же основании, с этих позиций подходя, мы прославляли чуть выше залыгинского Устинова как настоящего мужчину? Он ведь и к идее кооперирования относился с недоверием, и к лозунгам срочного вооружения крестьян подходил осторожно... Тоже вроде бы из тех, кто, говоря словами Маяковского, "глазом упирается в свое корыто".
Ни в коем случае! Этот не очень грамотный мужик "с любопытствующим хохолком на макушке" удивительно любознателен и широк в своих интересах. Все ему надо было знать: и как теодолит устроен, и какие общие законы мирозданием управляют, и как людям сообща по правде жить научиться. Рассуждения его о мироздании, о правде, справедливости, смысле жизни на редкость интересны и убедительны, хотя он нигде не выходит из своей роли, роли "простого" грамотного мужика-книгочея. И первым поднимать оружие против Колчака он не хотел вовсе не по причине неразвитости гражданских чувств. Наоборот - из-за их сильной развитости. Знал он о губительности братоубийственной войны и принципиально не хотел брать грех за ее развязывание на свою душу. Зато, когда такие, как Устинов, поняли, что с "колчаками" мирно не договориться, когда их вынудили взяться за оружие, дни Колчака были сочтены.
В описываемый Залыгиным период жизни масштаб хозяйской деятельности Николая Устинова, правда, не выходит за пределы его домашнего "государства" и сельских мирских проблем, но ведь, не научившись быть хозяином в этом масштабе, и хозяином в масштабе государства стать невозможно. А потенциал у Устинова очень велик. Он не хозяйчик, а хозяин, он не замкнут на чисто сегодняшних заботах - ему все хочется знать, все интересно, он и за мир в целом тоже считает себя ответственным. Он ничуть не Гаврилов!
Можно сказать: эпоха тогда была другая - революционная, напряженная, экстремальная. А что в наше время - время глобальных массовых процессов может один человек? Разумно ли требовать от кого-то сочувствия бедам человечества, которым нет числа, если от него при этом почти ничего не зависит? Не лучше ли оставаться ему обывателем, чем бесплодно гоняться за неуловимыми "синими птицами", терзать себя впустую болями века?
Дело вкуса. Мне лично ближе позиция, выраженная в "Идиоте" Достоевского: "Лучше быть несчастным и знать, чем быть счастливым и жить в дураках".
В принципе, наверное, это и для женщин лучше, но уж мужчинам-то "жить в дураках" вовсе не к лицу.
Как бы ни старался обыватель, от жизни ему не укрыться. Настигнет, ворвется в мирок, огороженный забором равнодушия, и накажет. Бессмысленностью жизни, скудостью радостей, бунтом или аморальностью детей, даже болезнями, преждевременной старостью и смертью. "Медицинский факт!" - как сказал бы по этому поводу Остап Бендер. С неоспоримостью зафиксировано, что переход на "заслуженный отдых", как правило, не укрепляет здоровье, а совсем наоборот. Ученые объясняют это возникающим ощущением своей ненужности, социальной непродуктивности, которое программирует физиологические механизмы организма на быструю самоликвидацию. Здесь уместно еще раз вспомнить опыт блокадного Ленинграда. В "Блокадной книге" А. Адамович и Д. Гранин подчеркивали, что вопреки вполне научным вроде бы представлениям, будто лежащий неподвижно человек теряет меньше калорий, опыт этот показал: "Те, кто спасал, те, кто за когото беспокоился, кому-то помогал, вызволял и кого-то тащил, те, на ком лежала ответственность, кто из последних сил выполнял свой долг работал, ухаживал за больными, за родными, - те, как ни странно, выживали чаще".