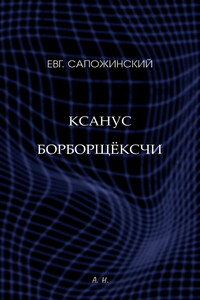Courgot | страница 38
Мы остановились — сначала резко остановился я, затем Ева. Этот двор был слишком похож на мой сон.
Я вспомнил другой сон. Тот, который приснился после того, как я писал. Кирпичи, грязно-зеленые скамейки. Пройдя под аркой, мы оказались в странном месте; казалось, мы никогда и не выходили оттуда. Короткое замыкание пространства. Серые блоки, седалища, остатки черно-белого снега. Яйцеобразные двухсотпятидесятиваттные ртутные лампы на подвесах; стальная проволока структурирует размеренность низкого пасмурного неба. Серые кирпичи, скамейки, остатки. Но тот цветной сон совсем не был похож на эту черно-белую явь, в нем были розовые и золотистые тона, черное было глубоко черным, а не темно-серым, а белое — слепяще-ярким. Золотистое — понятно, а вот розового не ожидала от тебя. Да все просто. Под теплым сентябрьским дождем (бывает ведь такое) впереди меня шла барышня, фонари торжественно сияли, улица выглядела бесконечной, а влаги становилось все больше. Вода спорила со светом; в то же время они находились в какой-то непостижимой гармонии: усиливаясь, дождь словно пытался заслонить яркий электрический свет, рассеивая его и пытаясь выключить шумом. Звук этот был самой сладчайшей музыкой, которую я когда-либо слышал. Он успокаивал нервы и баюкал, словно говоря: ты почти уже дома. Совершив массу относительно важных дел, ты идешь домой, где тебя ждут. Сейчас ты повернешь направо. Теперь уже видны окна в твоей блочной высотке: вот они. Свет. Седьмой. Бледно-пурпурный ночник в детской, яркий свет люстры в гостиной, тепло-желтое бра на кухне с голубоватой примесью старого черно-белого телевизора «Юность». Ждут. Нет; ты идешь дальше, пропуская мимо пародийную квадратную рощицу слегка-черно-много-белых берез. Проспект. Гордо носящий имя Славы. Славы чего?
Шла, держа кисти рук горизонтально — тыльной стороной вниз, ладони ловили дождь. Кольцо. Стадо ЛиАЗов воняло солярным выхлопом; иные делали круг-другой, как трамваи. Радиусом десять метров — окружность. Какая удивительная тишь. Ведь в каждой из этих машин есть двухваттник-эллипсоид, прикрученный к потолку или там куда-нибудь еще. Он умеет орать. Тишина относительная: больное урчание дизеля способно кое-кому напомнить, что зуб таки придется удалить, досадно, ну да черт с ними со всеми, черную (лучше темно-фиолетовую, так приятней!) штору глухо задернуть, да и пошли вы все на. (Так причем тут розовое? — Слушай дальше. Сказка не просто сказывается!) Мы дошли до площади. До малой, Победной. Ты знаешь, на самом деле это псевдоплощадь, на ней, представь себе, нет знака «Круговое движение», и он там даже не подразумевается. А потом были опять бульвары, перекрестки, фонари, закрытые магазины, мигающие светофоры, ларьки без пива, Х. В. и, казалось бы, улица должна была вывести на вокзал, но нет, она нырнула вбок, прикинувшись тротуаром, но я не потерял из виду барышню в розовом платье. Так она была в розовом платье? Ну да. По́шло, Марк. Ну что поделаешь, платье было розового цвета. И после этого зрелища я стал писать стихи. Тяжелый случай, Марк. Тяжелый случай, Маркуша. А знаешь что? Я ее прощаю. За то, что ты написал хотя бы одну строку. Да у меня их несколько… — Я представляю, как застенчиво ковыряю песок детской площадки носком шуза. Ангелок. Горючее и окислитель, говорит Ева, мягко беря меня за руку. Мур-р, я тебя люблю.