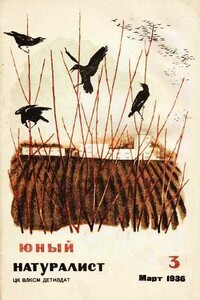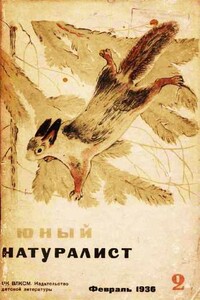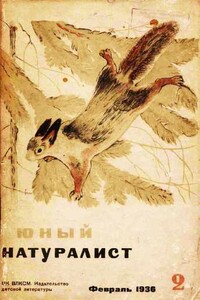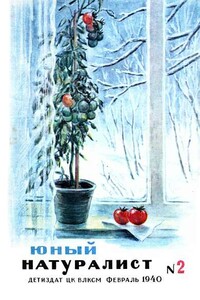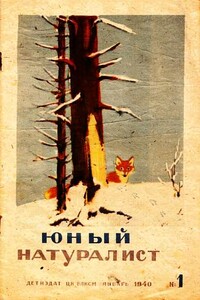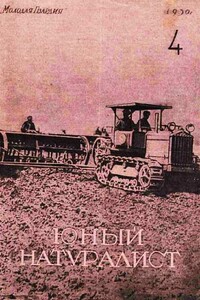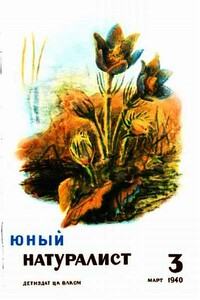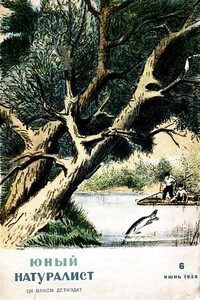Журнал "Юный натуралист" №1, 1936 | страница 9
Бывало слушаешь эти рассказы — и мороз по коже. И не сразу догадаешься: как же это люди узнали про лошадиный разговор, коли каждый, кто его слышал, помирал, не успев никому о нем рассказать?
Ну, а все-таки, говорят ли между собой лошади? А собаки, кошки, гуси?
Да, говорят. Но уж, конечно, не человечьим языком, не человечьими словами. И вовсе не нужно думать, что язык их — недостижимая для нас тайна. Посмотрите: вот встретились две собаки. Вы увидите, как они понюхают, обойдут друг друга, вильнут хвостами, подымут уши, слегка раскроют рты и высунут кончик языка. Или подымут на спине дыбом шерсть, сморщат носы, оскалят белые клыки и поворчат. И они прекрасно поняли друг друга. Да и мы их поняли. В первом случае они дружески приветствовали друг друга, а во втором случае одна на другую погрозились. И для этого вовсе не понадобилось им слов. Оказалось достаточно нескольких движений и подачи голоса.
Членораздельные слова свойственны лишь человеку. Человеческая общественная жизнь так сложна, так неизмеримо далеко отошла от животного мира, что без слов, без речи человеку жить нельзя. Но было время, когда и человек не имел слов. Да они и не нужны были ему. Их заменял жест, мимика.
На первых ступенях развития человека люди говорили между собой руками, ногами, покачиванием головы, взглядами и т. д. И теперь еще среди индейских племен Северной Америки наряду с настоящей человеческой речью сохранился этот первобытный язык жестов.
Путешественники рассказывают, что вот сидят вокруг костра индейцы и часами молчат, а на самом деле между ними идет самый оживленный разговор про охоту, про зверей, про дела своего племени. Путешественник видит, как один или другой из собеседников шевельнет пальцами, поднимет бровь, чуть-чуть наморщит нос, наклонится то вправо, то влево — сотни, казалось бы, неуловимых жестов. А кругом все понимают.
Вот и звери, и собаки, и кошки — «говорят» между собой не словами, а движениями хвоста, ушей, усов и других частей те та и иногда особыми интонациями голоса. И надо думать, что не так-то уж много «слов» нужно им для этих разговоров.
В самом деле. Даже человеку в его повседневной жизни немного слов надо. Какой-то ученый подсчитал, что в старое время русский крестьянин имел в своем постоянном обиходе не больше восьмисот слов. Этих слов ему хватало для всех разговоров и о хозяйстве, и о податях, и о мирских делах, и для свадеб, и для похорон. Но ведь это же человек. Какими бы отсталыми ни были отдельные люди, они неизмеримо выше всякого животного, и, конечно, у животных «слов» куда меньше.