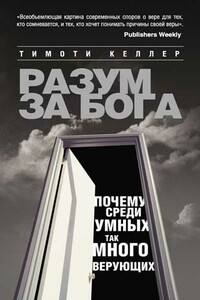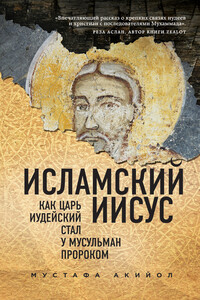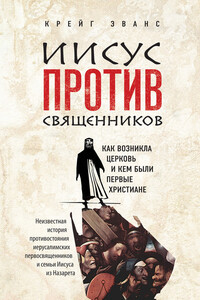Как жили и во что верили первые христиане | страница 28
Честно говоря, никогда еще не читал столь поспешного синтеза, когда идеологическая заданность не позволяет критически рассмотреть факты. Вышеприведенный текст Эрмана явно рассчитан на людей мало осведомленных, каковыми, очевидно, в его глазах выступают его студенты — будущие исследователи религии. Тогда как успешный американский студент-теолог, будь то из либеральной или, наоборот, консервативной семинарии, мог бы ему возразить следующим образом. Во-первых, ключевые фразы всего пассажа об Отроке (Рабе) Господнем содержат в себе глаголы будущего времени:
Раб Мой преуспеет, возвысится он, вознесется, взойдет высоко! (Ис 52:13 в СРП)... <...> Если Ты [Господь] сделаешь его жертвой за грех, то узрит он потомство свое, будет жить долго и волю Господа сумеет исполнить. После бедствий он узрит свет и насытится. «Он, праведник, раб Мой, своей мудростью оправдает многих, на себя вину их примет. Поэтому Я ему долю дам средь великих, и вместе с сильными будет он делить добычу» (Ис 53:1 ОЬ-12а в СРП).
Таким образом, остальные фразы, содержащие глаголы прошедшего времени, также оказываются футуристичными, говоря о будущем, как об уже свершившемся, что представляет собой известный прием пророческой речи (ср.: Ис 9:1-7). Во-вторых, когда у Второ-Исайи Израиль, т.е. еврейский народ, называется рабом Господа (как в Ис 49:3, ср.: Ис 41:8; 44:1-2, 21; 45:4), то она предельно конкретна и не допускает двусмысленности. В-третьих, видеть в страдальце иерусалимскую аристократию, переселенную в Вавилон, как минимум странно, поскольку если какие страдания и выпали на ее долю, так только нравственные, что вызвало известное ее ожесточение, отраженное в Пс 136:1-9. Да и ее возвращение из плена в Иерусалим представлено тем же Второ-Исайей не только как следствие искупительного воздаяния за ее грехи (Ис 40:2), но и содержит призыв приготовить в пустыне дорогу Господу (Ис 40:3). Таким образом, само возвращение предполагает дальнейшее исправление вчерашних пленников. В-четвертых, страдалец в Ис 52:13-53:12 предельно персонифицирован. Тогда как об Израиле — рабе Господа у Второ-Исайи последний раз говорится совсем не в непосредственной близости от данного пассажа, а в связи с ранее затронутой мессианской темой «света для всех народов» и «спасения», которое «края земли достигло» (Ис 49:1-7 в СРП). Впрочем, главное здесь даже не в этом. А в том, что Эрман решительно не желает видеть связь пассажа Ис 52:13-53:12 с мессианским самосознанием Иисуса. Что же касается этого текста, то он в самом деле уникален во всей еврейской библейской традиции, а посему в ее контексте загадочен, поскольку только в нем содержится идея заместительной жертвы, сама невозможность которой была укоренена в еврейском религиозном сознании (см.: Пс 48:7-9). Поэтому принципиальный вопрос здесь состоит в том, рассматривал ли Сам Иисус известный пассаж из Второ-Исайи как пророчество о Своем мессианском служении? Эрман, и не он один, как в прошлом, так и в настоящем дает на него отрицательный ответ. Альтернативная точка зрения, восходящая к Швейцеру, хотя за ней стоит исторически выверенная аргументация, его принципиально не устраивает. И, как отмечал Сандерс, с данной уже не научной, а идеологической установкой ничего нельзя поделать.