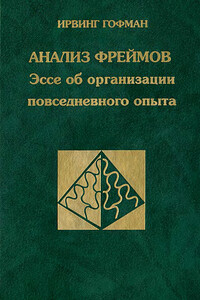Тотальные институты | страница 37
Постояльцы, как и персонал, активно стремятся к подобному ограничению Я, так что умерщвление дополняется самоумерщвлением, запреты — отречениями, избиения — самобичеваниями, дознания — исповедями. Религиозные учреждения особенно ценны для исследователя, поскольку они открыто исповедуют умерщвление Я.
В концентрационных лагерях и, в меньшей степени, в тюрьмах умерщвление Я, по-видимому, осуществляется полностью или преимущественно ради самого умерщвления (как в случае, когда на заключенного мочатся), но при этом постоялец не стремится изо всех сил разрушить свое Я.
Во многих других тотальных институтах умерщвление Я официально рационализируется на других основаниях вроде санитарии (обязанность чистить туалеты), поддержания жизни (принудительное питание), боеспособности (армейские правила относительно внешнего вида), «безопасности» (строгие тюремные правила).
Однако во всех трех видах тотальных институтов различные основания для умерщвления Я очень часто представляют собой всего лишь рационализации, создаваемые с целью управления повседневной активностью большого числа людей в ограниченном пространстве при небольшом количестве ресурсов. Кроме того, Я ограничивается во всех трех видах институтов даже там, где постоялец действует добровольно и руководство идейно печется о его благополучии.
Я рассмотрел два вопроса: чувство личного бессилия постояльца и связь его желаний с идейными интересами учреждения. Связь между этими вопросами может быть разной. Люди могут добровольно отправляться в тотальный институт и, к своему сожалению, лишаться возможности принимать столь важные решения. В других случаях, особенно в случае религиозных институтов, постояльцы могут с самого начала и все время добровольно стремиться к отречению от своей личной воли. Тотальные институты фатальны для гражданского Я постояльца, хотя степень привязанности постояльца к своему гражданскому Я может значительно различаться.
Рассмотренный мной процесс умерщвления Я связан с выводами относительно Я, которые могут делать люди, ориентирующиеся на определенную экспрессивную идиому, исходя из внешности, поведения и общей ситуации индивида. В этом контексте я хочу обсудить третий и последний вопрос: связь между таким символико-интеракционистским подходом к судьбе Я и общепринятым психофизиологическим подходом, основанным на понятии стресса.
В данной работе базовые факты относительно Я излагаются с социологической точки зрения, всегда отсылающей к описанию институциональных условий, которые определяют личные прерогативы члена. Конечно, нельзя обойтись и без психологических допущений: когнитивные процессы всегда играют роль, поскольку индивид и другие должны «считывать» социальные условия, чтобы понимать, какой образ себя они предполагают. Но, как я показал, связь этих когнитивных процессов с другими психологическими процессами очень вариативна: согласно общей экспрессивной идиоме нашего общества, бритая голова сразу воспринимается как способ ограничения Я, но если пациента психиатрической больницы такое средство умерщвления Я может приводить в ярость, то монаху оно может нравиться.