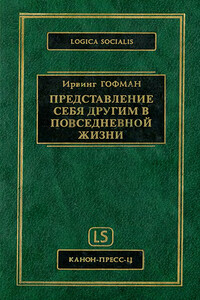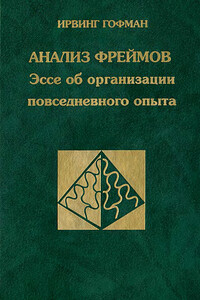Тотальные институты | страница 24
Вероятно, наиболее очевидный тип контаминации предполагает прямое физическое воздействие — загрязнение и осквернение тела или других объектов, тесно связанных с Я. Иногда это предполагает невозможность обычных способов самоизоляции от источника контаминации, как, например, в случае, когда приходится самому выносить за собой нечистоты[77] или ходить в туалет по расписанию, как в китайских политических тюрьмах:
Один из аспектов их тюремного распорядка, который показался бы западным заключенным особенно гнетущим, — то, как там приходится удалять из организма мочу и кал. «Помойное ведро», обычное для русских камер, в Китае часто отсутствует. В Китае принято разрешать дефекацию и мочеиспускание только один или два раза в день в строго отведенное время — обычно утром, после завтрака. Охранник выталкивает заключенного из камеры, гонит его бегом по длинному коридору и дает ему около двух минут, чтобы усесться на корточки над открытым китайским отхожим местом и справить все свои нужды. Спешку и публичность особенно сложно перенести женщинам. Если заключенные не успевают сделать свои дела за две минуты, их прерывают и гонят назад в камеру[78].
Очень распространенная форма физической контаминации отражается в жалобах на плохую еду, неубранные помещения, испачканные полотенца, обувь и одежду, пропитанную потом бывших владельцев, туалеты без сидений и грязные душевые[79]. Пример можно найти в рассказе Оруэлла об интернате:
К примеру, овсянку нам подавали в оловянных мисках. У них были загнутые ободки, и под этими ободками скапливалась скисшая каша, которая отслаивалась длинными полосками. В самой овсянке было столько комков, волос и непонятных черных крупинок, что это казалось немыслимым, если только кто-то их туда специально не клал. Приступать к овсянке, сперва ее не изучив, было небезопасно. А эта склизкая вода в общей ванне — она была двенадцать или пятнадцать футов длиной, и вся школа должна была окунаться в нее каждое утро, и я сомневаюсь, что воду в ней меняли так уж часто. А еще эти вечно сырые вонючие полотенца… А потный запах раздевалки с ее грязными раковинами и, вдобавок, рядом мерзких, обшарпанных туалетных кабинок, двери в которых нельзя было ничем запереть, так что, стоило присесть, кто-нибудь к тебе обязательно вламывался. Мне сложно вспоминать о своих школьных днях, не ощущая запаха чего-то холодного и зловещего — запаха потных носков, грязных полотенец, кала, которым постоянно пахло в коридорах, вилок с засохшей едой между зубьями, жаркого из бараньей шеи, а также хлопающих дверей в туалетах и отдающегося эхом стука ночных горшков в спальнях