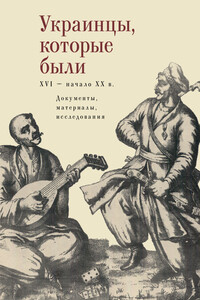История всемирной литературы в девяти томах: том пятый | страница 96
Стерновский скептический юмор не означает ни иррационалистического взгляда на мир, ни проповеди всеобщего релятивизма. Гуманизм Стерна — каковыми бы ни были его частные уступки религии — материалистичен по своей природе. Автор «Тристрама Шенди» нимало не сомневается в живой, телесной реальности людей, быта и нравов, изображаемых им так зримо и наглядно. И если он вместе с тем неоднократно провозглашает, что «мы живем в мире, со всех сторон окруженном тайнами и загадками», то это не отказ от познания мира, а стремление углубить познание. «Тайны и загадки», занимающие Стерна — художника, — это прежде всего тайны душевной жизни человека, загадки противоречивых взаимопереходов от одного настроения к другому, от намерения к поступку ему противоположному. Психологический анализ Стерна в какой — то мере предвосхищает то постижение «диалектики души», которое позднее Чернышевский связывал с творческим методом Толстого.
Особенно замечательно в этом отношении «Сентиментальное путешествие» (1768). По отношению к популярному в литературе XVIII в. классическому жанру дидактического описательного путешествия это произведение занимало такую же новаторскую позицию, как «Тристрам Шенди» по отношению к классическому типу просветительского романа. «Сентиментальное путешествие» естественно «отпочковалось» от «Тристрама Шенди»: герой — рассказчик, пастор Йорик, уже фигурировал в числе эксцентрических персонажей романа Стерна.
Главное для Йорика — Стерна — не внешние приметы стран, городов и селений, куда он приезжает, а те душевные движения, иногда, казалось бы, совсем мимолетные, которые вызывают дорожные впечатления в сознании «сентиментального путешественника». Простодушное веселье добрых поселян наводит его на мысль, что «радостная и довольная душа» — наилучшая благодарность, которую может принести небу как крестьянин, так и прелат. Встреча с бедной пастушкой, помешавшейся от несчастной любви, «размягчает все его существо», заставляет слагать дифирамбы во славу «Милой Чувствительности». Мертвый осел, оплакиваемый неутешным хозяином, вызывает горькие раздумья о разобщенности людей: «Позор для нашего общества! — сказал я про себя. — Если бы мы любили друг друга, как этот бедняк любил своего осла, — это бы кое — что значило».
Но душа «сентиментального путешественника» открыта не только возвышенным, но и самым легкомысленным впечатлениям; слезы и вздохи перемежаются на страницах книги с фривольными анекдотами, а иной раз и такими жестами и поступками, которые автор предпочитает обозначать лишь намеком, предоставляя остальное догадливости читателя. Йорик непрестанно анализирует свои поступки. Его можно было бы упрекнуть в эгоцентризме, если бы этот пристальный самоанализ был менее трезвым, скептическим, даже язвительным. Нельзя забыть умилительного прощания Йорика с нищенствующим францисканским монахом в Кале. Но как черство и грубо отверг поначалу Йорик смиренную просьбу монаха о подаянии и какими себялюбивыми мотивами (главным образом боязнью уронить себя в глазах приглянувшейся ему дамы — попутчицы) было вызвано его последующее раскаяние! Тоскливо сжимается сердце Йорика при виде запертого в клетке скворца, повторяющего затверженные слова: «не могу выйти», «не могу выйти». И воображение «сентиментального путешественника» рисует картину страданий узника, заключенного в темницу, где «железо вонзается ему в душу». Он клеймит «горькую микстуру» Рабства, славит «трижды сладостную и благодатную богиню» — Свободу! Но насмешник Стерн и здесь не преминет добавить, что Йорик, приехавший во Францию без паспорта, сам весьма опасается ареста; как только ему удается выхлопотать у герцога де Ш. паспорт, тут же все гражданские порывы улетучиваются из его сознания, уступая место интрижке с хорошенькой горничной.