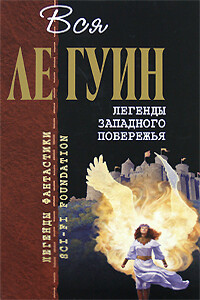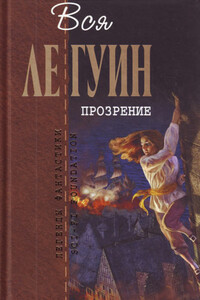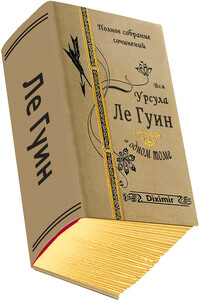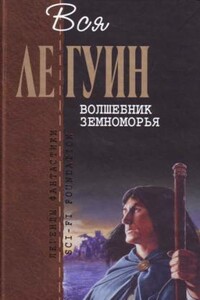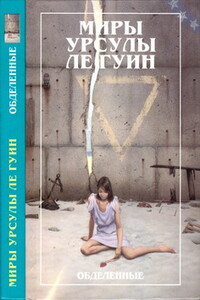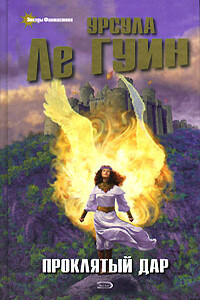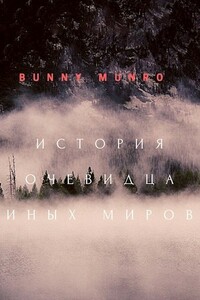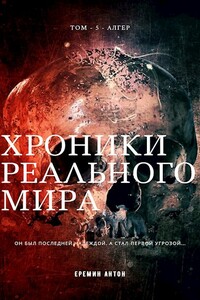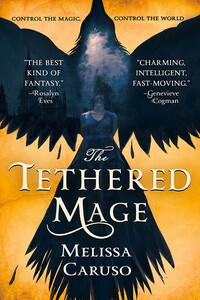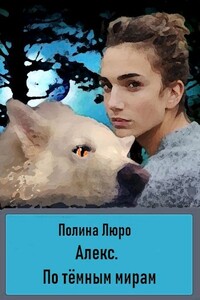Хайнский цикл. Том 3. Толкователи | страница 65
Итак, ее обучение началось! И лишь впоследствии она поняла, что началось оно несколько раньше: когда впервые в доме Изиэзи она ощутила на языке вкус настоящей здешней пищи.
Один из историков Дарранды как-то заметил:
«Учиться верованиям, не веруя, это все равно, что петь песню, не зная мелодии».
Уступчивость, послушание, готовность принять предлагаемые тебе ноты как единственно верные, предлагаемый рисунок роли как единственно возможный — вот основа сценического искусства, перевода и вообще — взаимопонимания. Этот жест не должен быть постоянным, не должен превращаться в состояние души или ума, но и фальшивым он быть не может. Он означает больше, чем временный отказ от неверия во имя того лишь, чтобы досмотреть спектакль до конца, но все же не является истинным обращением в веру. Он чем-то похож на обязательную фигуру в танце. Так учили Сати в Вальпараисо ее учителя, прибывшие туда из многих далеких миров, и у нее никогда не возникало сомнений в справедливости этого учения.
Она прибыла на Аку, чтобы научиться петь песни этого мира, узнать их мелодии, научиться танцевать здешние священные танцы; и вот только сейчас, вдали от бесконечного шума больших городов, начинала она слышать эти мелодии и учиться танцевать под них.
День за днем Сати скрупулезно записывала свои наблюдения, которые то и дело спотыкались Друг о друга, друг другу противоречили, то усиливая предыдущее впечатление, то полностью его отметая. И без конца заставляя ее размышлять. Она просто захлебывалась в том море информации, которая на нее обрушилась, путалась в самых различных вещах и проблемах, пытаясь составить хотя бы самое грубое представление о том крохотном уголке бескрайнего пространства, которое ей предстояло исследовать: отточенного тысячелетиями мировосприятия тех человеческих существ, которые издавна населяли эту планету, и в данный момент представлявшего собой обширную, замкнутую на себя самое систему символов, метафор, теорий, космологии, диет, гимнастик для тела и ума, физики и метафизики, знаний в области металлургии, медицины, физиологии, психологии, алхимии, химии, каллиграфии, нумерологии, ботаники, устного народного творчества, поэзии, истории, литературы…
В этой обширной и неведомой стране чужой ментальности Сати ощупью искала тропинки и вехи: такие социальные институты, которые можно было бы описать, такие идеи, которые можно было бы сформулировать. Она инстинктивно избегала глобальных или слишком туманных концепций, искала нечто осязаемое, реальное, столь же доступное пониманию, как, например, архитектура. Здания в Окзат-Озкате — те самые, с двустворчатыми дверями и символом «дерева», — некогда были храмами «умиязу». Это слово теперь тоже входило в разряд запрещенных; оно даже и словом-то не считалось. А для Сати такие слова как раз и служили указателями в том переплетении тропинок, что вели ее по этой неведомой стране. А может, и слово «храм» здесь тоже не годилось? Что, собственно, происходило некогда в этих «умиязу»? Откуда ей знать…