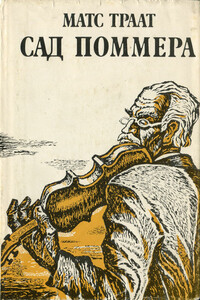Последние распоряжения | страница 104
А когда он умолкает, у Эми такой вид, будто она его не слышала, будто она вообще не в этой комнате. И мне приходится брать инициативу на себя, задавать вопросы, хотя вопрос, по сути, всего один: сколько еще? Стрикленд выглядит довольным, ведь теперь беседа перешла в другую область, где он ни за что не отвечает: он занимается ремонтом, а не сдачей в утиль, и все это перестанет его касаться, как только он выйдет из ординаторской. Он заводит разговор о «подавлении симптомов», что звучит для меня примерно так же, как «неоперабельность», и именно тогда я замечаю, что руки Эми начинают цепляться за мои и сжимать их, и слышу, как она пытается дышать ровнее. Стрикленд все бубнит что-то насчет подавления симптомов, глядя прямо мне в лицо, а Эми все цепляется за меня, как будто ей самой надо подавить симптомы. Ее руки словно взбираются, карабкаются по мне, точно по лестнице, ведущей к какому-нибудь запасному выходу, прочь из этой комнаты. Но мне кажется, что Эми больше никогда не выйдет отсюда, она будет заперта здесь навечно, это ее собственная тюрьма. Теперь она стала как Джун. И я весь застываю, твердею, как мачта, как башня, а она все хватается и цепляется за меня. И я думаю: она мне не мать, не родная мать.
Но вдруг мы оказываемся в коридоре – опять так, словно не приложили к этому никаких усилий, а сам мир просто сдвинулся, повернулся вокруг нас, – и Стрикленда уже нет, он удрал через свой собственный запасной выход. Мэнди взяла Эми на себя, она поддерживает ее и ведет к дверям, как бы отстраняя меня взглядом – мол, теперь они, женщины, сами разберутся. Но Эми и ей не родная мать.
Ну что ж – мое дело мужское. И перед тем как выйти за ними, я опять захожу в палату и минуту-другую стою у его кровати, просто глядя на него. Он еще и пальцем не шевельнул, лежит с закрытыми глазами, по-прежнему в маске. Стрикленд говорил, что он сам ему скажет, сам все объяснит, но не раньше чем через сутки после того, как Джек придет в себя: надо ведь подождать, чтобы закончилось действие обезболивающего и всяких других лекарств, иначе он и не поймет толком, о чем речь. Но мне кажется, что это должен сделать не Стрикленд, не его это забота.
Я стою рядом с кроватью, как башня, как неподвижная мачта, но Джек не пытается взобраться по мне, он лежит около меня пластом, и я думаю: лучше бы ему умереть сейчас, не просыпаясь, чтобы так ничего и не узнать и чтобы никто не должен был ему рассказывать. Разве плохо: он никогда не узнает, а мир спокойно покатится дальше без него. Чего не знаешь, то не причиняет боли. Вот я, например, не помню взрыва того снаряда, никогда не мог вспомнить. Мне говорили: пока их слышишь, с тобой все в порядке, а вот если звук обрывается, значит, хана. Так что если бы тот снаряд убил и меня, я никогда не узнал бы, что родился, и никогда не узнал бы, что умер. То есть мог бы быть кем угодно. Я смотрю на него, как на панораму внизу. Где мои золотые деньки? И я думаю: кто-то ведь должен сказать ему. Кто-то должен.