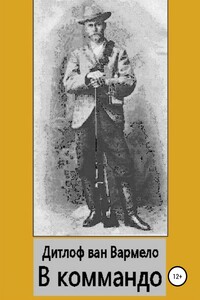Павел Третьяков | страница 54
Тяга к знаниям не оставила Павла Михайловича и в зрелом возрасте. Самообразование играло колоссальную роль в жизни мецената. Н. А. Мудрогель с гордостью пишет о Третьякове: «Павел Михайлович не был ни в каком учебном заведении и всю культурность добыл уже сам, самоучкой и самовоспитанием, а также ежегодными поездками по Европе»>[184]. Живой, деятельный ум Третьякова постоянно требовал новой и новой серьезной пищи. Поэтому потомственный купец очень много читал.
В середине — второй половине XIX века любовь к чтению для образованной публики являлась скорее нормой, нежели исключением. Дореволюционная русская культура была литературоцентрична. Исследователи объясняют почтение к книжному слову тем, что в России при переходе от преимущественно церковной литературы к светской последняя переняла от первой доверительное отношение к слову. Как бы то ни было, русский образованный человек питал к литературе — и как следствие к литераторам — совершенно особое уважение. Если художники и архитекторы еще в первой половине столетия воспринимались лишь как «технический персонал», то к писателю, к «служителю слова», элитарные слои общества относились с уважением. А главное, во второй половине столетия сама культурная элита России очень изменилась: помимо дворян, в нее вошли представители так называемой разночинной интеллигенции и купечество.
Читали тогда весьма много, притом интерес сосредоточивался не только на книгах, но и на «толстых журналах», своего рода «энциклопедиях жизни» той эпохи. Читали в одиночестве, вслух в компании друзей — и даже по ролям: в конце 1870-х годов из подобных воскресных «чтений» в доме купца С. И. Мамонтова выросли сначала «живые картины», а затем любительские спектакли, воспитавшие немало будущих знаменитостей русской сцены. К тому же чтение было наиболее доступным родом развлечения.
Характерно в этом смысле свидетельство В. П. Зилоти о жизни на съемных дачах в Кунцеве, относящееся к 1870-м годам. Кунцевские дачи оживали в летнюю пору, когда сюда приезжало «…по большей части московское именитое купечество, любившее летом тишину и покой… Среди лета все родители пили воды, кто „Виши“, кто „Эмс“; все гуляли, встречались и беседовали о политике, злобах дня и более всего о новых книгах. Одно за другим выходили сочинения: Печерского „В лесах“ и „На горах“; „Анна Каренина“ Толстого; сочинения Достоевского и Тургенева; читались всеми „Вестник Европы“, „Русский вестник“ и „Отечественные записки“. Выросшая молодежь вставала и встречалась позже и обсуждала все эти книги; перечитывала „Войну и мир“; все увлекались Печерским»