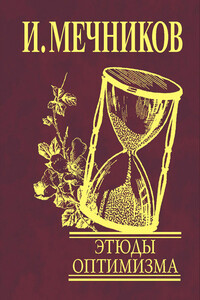Борьба за существование | страница 12
Одно из основных положений этической школы состоит в ограничении свободного соперничества, - и с этой точки зрения она представляет для нас еще и специальный интерес. Но по отношению к этому вопросу, равно как и по отношению к основным нравственным принципам, эта школа не дает нам цельного и ясно определенного взгляда. Главный представитель ее, Шмоллер, очевидно признает благотворное действие конкуренции, по крайней мере, в некоторых случаях и притом в известных пределах. Так, он говорит о хороших последствиях ее при соперничестве развитых представителей крупной торговли. То же вытекает и из следующих его слов: «Увеличивающееся неравенство имущества справедливо, поскольку оно обусловлено различием талантов; но это различие объясняет скорее, почему банкир X заработал в последние годы только один, а банкир Y - двадцать миллионов, или почему рабочий А сделался подмастерьем с шестьюстами ежегодного содержания, а рабочий В остался носильщиком с двумя-тремя ста талеров». Тут, следовательно, признается справедливость победы одного соперника над другим; то же заключается и в следующих его словах: «Я всегда готов стоять за преимущества образования, но не за привилегию кошелька или рождения». Да и сама теория «справедливого распределения» (Vertheilende Gerechtigkeit), то есть вознаграждения но заслугам, обязывает давать сильнейшему конкуренту более, чем слабейшему. «Чем более уверен человек, - говорит Шмоллер, - что добродетель вознаграждается на этом свете, что прилежание, большая деятельность и большое напряжение пропадут недаром, тем более напрягаются все струны энергии».
Сводя все это, следует придти в заключению, что Шмоллер признает пользу конкуренции, поскольку она состоит в соперничестве личных и притом признаваемых нравственными качеств, но восстает против нее, когда пускаются в ход безнравственные силы, то есть хитрость, обман и проч., - или же преимущества, даваемые рождением и состоянием. Правда, он нигде не высказывает категорически этого воззрения, и нередко впадает с ним в противоречие. Так, например он восстает против свободы конкуренции «во всех областях, где богатый конкурирует с бедным, лицо, могущее ждать, с другим, которому необходимо торопиться, умный с глупым, сильный со слабым». Первые два случая еще могут находиться в согласии с резюмированной выше теорией, но как согласить признание преимуществ таланта и вознаграждение по личным заслугам с этим восстановлением против победы умного над глупым и сильного над слабым? Как согласить, далее, теорию справедливого распределения и конкуренции, основанной на признании преимущества таланта и образования, с признаваемым Шмоллером правом наследственной собственности? «Я защищаю наследственное право, - говорит он, - поскольку оно полезно, как в экономическом, так и в нравственном отношении». Отсутствие ясно формулированного взгляда и противоречивость основных положений Шмоллера делают невозможным признать его замечания о конкуренции вкладом в положительное знание. Постоянные же ссылки на нравственные начала («добродетель должна решать» вопросы о распределении, участии вознагражденной добродетели в напряжении экономической деятельности, признание наследственного права, поскольку оно полезно в нравственном отношении, и т.д.) и подведение к ним основных положений экономической науки оставляют читателя тем менее удовлетворенным, что он тщетно стал бы искать у Шмоллера точной постановки и развития этических принципов.