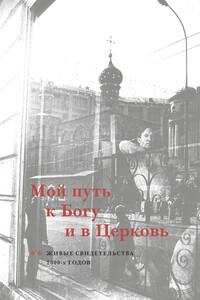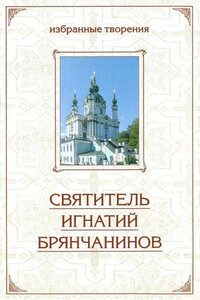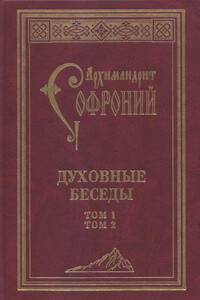Архимандрит Амвросий Погодин - Святой Марк Эфесский и флорентийская уния - 1994 | страница 49
10. Что же касается словъ Василія Великаго, въ которыхъ, молясь Богу объ усопшихъ въ молитвахъ на Пятидесятницу, онъ проситъ имъ упокоенія и учиненія съ праведными, то въ нихъ отнюдь ничего не заключается, относящагося къ очистительному огню. Согласно сему и тропарь, поемый нами объ усопшихъ, въ которомъ мы говоримъ Богу какъ бы отъ лица усопшаго: “Ущедри созданіе Твое, Владыко, и очисти Твоимъ благоутробіемъ”, очевидно говоритъ объ очищеніи, но не — огнемъ, а только божественнымъ благоутробіемъ и благостію; ибо всуе было бы очищаемаго огнемъ просить еще и благоутробіемъ очистить; но изглажденія нечистоты, по причинѣ которой онъ бываетъ чуждъ зрѣнія Бога и наслажденія, изглажденія, совершаемаго самой и единой божественной благостыней, онъ проситъ и называетъ “очищеніемъ”.
11. Что же касается приведенныхъ послѣ сего словъ блаженнаго Григорія Нисскаго, то лучше было бы предать ихъ молчанію и отнюдь не принуждать насъ, ради своей защиты, явно выносить ихъ на середину. Ибо Учитель этотъ видится явно соглашающимся съ догматами оригеніанъ и вводящимъ конецъ мученіямъ; а, въ частности, въ тѣхъ словахъ, которыя приведены вами, не иное что онъ возвѣщаетъ, какъ только то, что есть нѣкое чистилище и плавительная пещь и влеченіе къ Богу чрезъ скорбь и страданіе, до того времени, когда наступитъ конечное возстановленіе всѣхъ и самыхъ бѣсовъ, “да будетъ”, говоритъ онъ, “Богъ всяческая во всѣхъ”, по слову Апостола. Поскольку же между иными приведены на середину и эти слова, то сначала мы отвѣтимъ касательно ихъ такъ, какъ приняли отъ нашихъ Отцевъ: что возможно, что это является искаженіями и вставками, сдѣланными нѣкоторыми еретичествующими и оригенствующими, которые во множествѣ цвѣли въ тѣ времена, особенно въ мѣстахъ Египта и Палестины, произведенными съ той цѣлью, чтобы казалось, что они имѣютъ покровителемъ и этого святаго и великаго свѣтильника. Затѣмъ, скажемъ, что если и дѣйствительно святой былъ такого мнѣнія, однако это было тогда, когда это ученіе было предметомъ спора и не было окончательно осуждено и отвергнуто противоположнымъ мнѣніемъ, вынесеннымъ на Пятомъ Вселенскомъ Соборѣ; такъ что нѣтъ ничего удивительнаго, что и самъ, будучи человѣкомъ, онъ погрѣшилъ въ точности (Истины), когда то же самое случилось и съ многими бывшими до него, какъ — съ Иринеемъ Ліонскимъ и Діонисіемъ Александрійскимъ и съ иными, ибо и они своими изреченіями оказали извѣстную поддержку не право ведущимъ. А то, что это ученіе было тогда спорнымъ и отнюдь не очищеннымъ такъ, чтобы представлять точное сужденіе, свидѣтельствуетъ Григорій Богословъ, который въ словѣ “На Крещеніе”, любомудрствуя о неугасаемомъ томъ огнѣ, послѣ сего такъ говоритъ: “Если только не будетъ угодно кому и здѣсь понять это болѣе человѣчно и достойно Наказующаго”