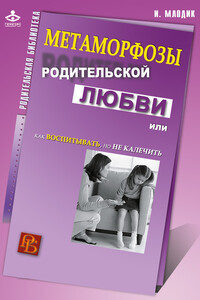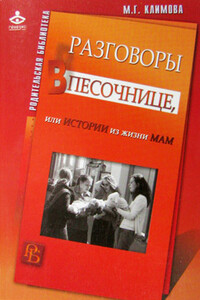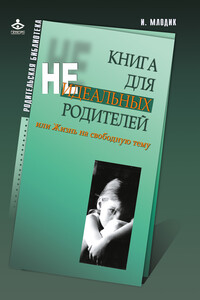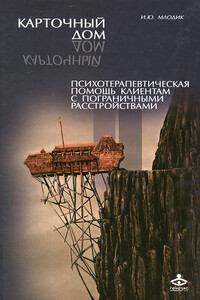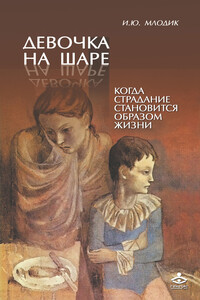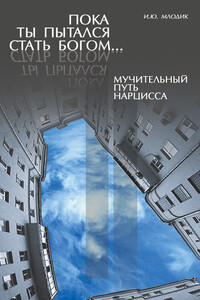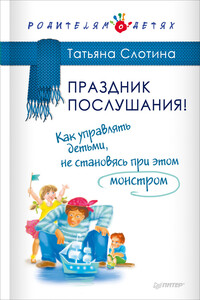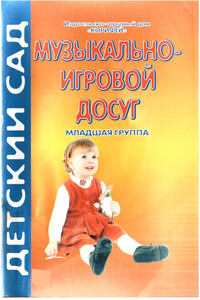Школа и как в ней выжить. Взгляд гуманистического психолога | страница 78
За свое честное старание и, как я сейчас думаю, неплохие литературные способности Андрюха получил «кол», истерику учительницы, разборку с родителями в школе, проработку на комсомольском собрании, какую-то пересдачу, вымученную тройку в четверти, наш неподдельный интерес и уважение. Я даже помню, как мы ходили защищать его то ли перед директором, то ли перед завучем, впрочем, безо всякого успеха.
«Горький путь опыта» навсегда, я думаю, отбил у Андрюхи желание доверять бумаге то, что думаешь. Никто из нас после этого уже не считал, что сочинение – это умение выражать свои мысли. Любовь к литературе умерла в нас, так и не родившись.
Целью нашей учительницы было вбить детям в головы побольше готовых и законченных аналитических выкладок известных литературоведов. Но применяемые ею средства не смогли привести к намеченной цели, скорее, наоборот, они внушили нам нелюбовь к русской литературе в целом и к некоторым авторам (заявленным в школьной программе) в отдельности. К концу школы каждый из нас был уверен, что все эти книжки – про скучные, ненастоящие и выдуманные кем-то проблемы, не имеющие никакого отношения к жизни. Как же удивляли меня потом высказывания некоторых иностранцев, с благоговением и восхищением отзывавшихся о русских классиках. Удивляли до тех пор, пока я не начала читать сама, не обращаясь за разъяснениями к учителям и критикам. И лишь тогда Достоевский, Пушкин, Тургенев, Толстой, Островский стали для меня не просто общепризнанными гениями, а по-настоящему близкими людьми.
Напомню, что я училась в учебно-центрированной школе, где главной целью педагогов было вложить в наши головы как можно больше готовых и давно переваренных кем-то знаний, основную часть которых я сразу же забыла, поступив в свой первый институт. Редкие учителя ставили перед собой другие задачи. Например, историк (я про него уже рассказывала), за несколько месяцев сумевший реабилитировать свой предмет в наших глазах, что было очень непросто, учитывая наш прошлый опыт. Англичанка давала нам переводить песни группы «АББА» и «Биттлз», было безумно интересно, и мы хорошо понимали, зачем нужен иностранный язык. И еще совершенно удивительно нам преподавалась химия. «Химозу» – нашу учительницу – мы не любили за строгость и стервозный характер, но испытывали уважение к ней и к ее предмету, похоже, именно потому, что она уважала свой предмет и нас. Всех учеников она называла на «вы», обращалась к нам как к студентам. Мы строчили конспекты, сдавали зачеты, писали химические диктанты, в общем, наше обучение строилось по университетской, а не школьной программе. Поэтому химию у нас знали даже те, кому она была не нужна. Мы не сидели над домашней работой часами, как это было с заданиями по другим предметами, мы просто знали суть, понимали механизмы, улавливали закономерности. Все это позволяло многим из нас непринужденно выигрывать призовые места на городских олимпиадах, и в результате все, кто хотел, легко поступили в столичные ВУЗы по химическим специальностям.