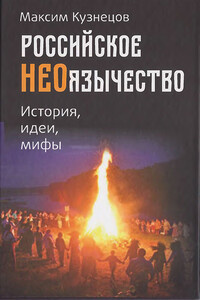Православие и русская литература в 6 частях. Часть 6, кн. 2 (VI том) | страница 14
Такое недопустимо.
Есть черта, завеса, куда заглядывать — грех. Грех вообще искать «Неизвестного»: это неизбежно обернётся хулою на Духа. И несомненная хула— примысливать Богу то, что по-человечески хочется услышать от Него.
Ибо: что должно сказать — сказано.
И то, что сказано, даётся не надменному разуму, но смиренной вере — Божией Благодатью.
Свои идеи Мережковский повторял, не развивая их, но лишь расширяя примерами и наблюдениями, в художественных трактатах о святых, наследовавших Иисусу Неизвестному, о мистиках разного рода, о деятелях истории и культуры. Перебирать всё им написанное, просеивать, отделяя здравые суждения от плевел, — нет надобности: нового ничего почти не найдём, а отвергать в который раз многажды повторённые заблуждения — зачем?
Поэтому укажем лишь на некоторые, наиболее любопытные извороты мысли писателя.
Прежде всего: в эмигрантский период Мережковский, кажется, вовсе предал презрению Православие: рассуждая о Церкви, о святых её, он всё о католичестве толкует, Православная же Церковь остаётся вне поля внимания как нечто второзначное и недоразвитое. К этому ведь тяготение было ещё и в прежние времена у многих. Теперь же, в Европе, и того легче: за Церковь признавать лишь то, что постоянно на виду. Конечно, при желании можно было разглядеть и православных русских — но не у всех такое желание было. Вот Вяч. Иванов — и вовсе в католичество с радостным восторгом перешёл, разъяснив своё состояние в сам момент «присоединения», в момент совершения соответствующего обряда:
«Произнося <…> Символ Веры, за которым следовала формула присоединения, я впервые почувствовал себя православным в подлинном смысле этого слова, обладателем священного клада, который был моим со дня моего крещения, но обладание которым до тех пор, в течение уже многих лет, омрачалось наличием чувства какой-то неудовлетворённости, становящейся всё мучительней и мучительней от сознания, что я лишён другой половины живого того клада святости и благодати, что я дышу наподобие чахоточных одним только лёгким. Я испытывал великую радость покоя и свободы действий, не ведомую ранее той поры, счастье общения с бесчисленными святыми, от помощи и молитвы которых я долго противовольно отказывался, сознание, что выполнил свой личный долг, и в своём лице долг моего народа, уверенность, что поступил согласно его воле, которую я тогда ясно увидел созревшей для Единения, что остался верен его последнему завету: требованию забыть его и принести в жертву вселенскому делу Соборности. И — удивительно— я мгновенно почувствовал его, в духе возвращённым мне рукою Христа: вчера я присутствовал на его похоронах, сегодня я вновь был соединён с ним, воскресшим и оправданным…»