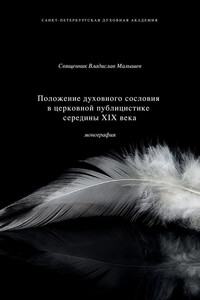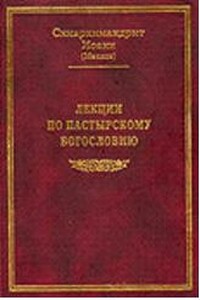Православие и русская литература в 6 частях. Часть 5 (IV том) | страница 31
Идеология гуманизма (как уже многажды было говорено), находящая наиболее полное и точное воплощение в ренессансных ценностях, обрекает человека на трагическое одиночество в обезбоженном мире и заставляет его искать опоры для самоутверждения в бездуховном вакууме. А поскольку искать ему негде, кроме как в самом себе, он обречён и на обретение всех критериев — истины, добра и зла, красоты и пр. — в собственных представлениях о мире. С одной стороны, это порождает хаос идей и торжество зыбкого плюрализма, а с другой — порочность самих идей, поскольку повреждённая природа человека, поощряемая бесовским соблазном, ничего иного создать не в состоянии. Православная духовность должна в этой системе ценностей отвергаться, поскольку Бог начинает сознаваться лишь как «гипотеза», в которой человек не имеет нужды (Лаплас), поскольку «Бог умер» (Ницше), поскольку без Бога помрачённое сознание человека начинает ощущать себя комфортнее и вольнее.
Искусство «серебряного века» есть выражение такого безблагодатного состояния. Компенсацией бездуховности стала в этом искусстве эстетическая утончённость творчества. Интенсивная душевность полностью заняла место духовности.
Лев Толстой (в трактате «Что такое искусство?») верно заметил, что ложь католицизма породила разочарование в вере, и человек в образовавшейся секулярной пустоте подменил веру обожествлением красоты. (Если не забыть при этом, что именно в недрах католицизма вызрел ренессансный тип мироосмысления, идеология гуманизма, то нетрудно сознать исток того мнения, будто искусство представляет собою замкнутую самодовлеющую систему, а обращение к любым темам в искусстве должно быть подчинено его главной цели — созданию высокоэстетических ценностей. Любые шаги от Истины приводят к безбожию неизбежно.) На уровне обыденного сознания это понимается, как известно, и того проще: задача искусства — развлекать публику, отвлекать человека от мирских забот и жизненных тягот, погружая его в стихию грёз, свободных фантазий и т. д. Правда жизни, даже обычная житейская правда, не говоря уже о Высшей Истине, порою молчаливо, порою громогласно признаётся при этом необязательною, а то и нежелательною категорией.
Б.Зайцев, сам прошедший искус «серебряного века», писал о литературе того времени: «Вот чего мало было в этой литературе: любви и веры в Истину. Это и сушило. Слишком много все мы были заняты собой»>47.
Сами художники склонны утверждать, что искусство есть просто способ выразить себя, бессознательная потребность души «творца», а кому и зачем это нужно помимо него самого — вопрос якобы не имеющий смысла. Н.Гумилёв так и определял поэзию: «Поэзия для человека — один из способов выражения своей личности и проявляется при посредстве слова, единственного орудия, удовлетворяющего её потребностям»