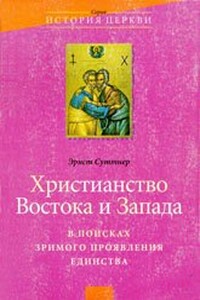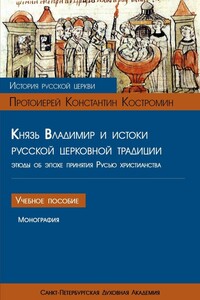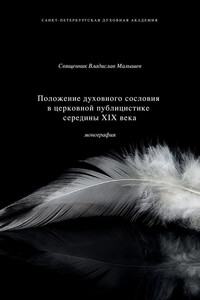Православие и русская литература в 6 частях. Часть 5 (IV том) | страница 22
«Крестовые сёстры»— самое, кажется, реалистическое произведение Ремизова, признанное вершинным созданием дореволюционного периода его творчества. Нет, реализм повести не вполне последователен: детерминизм в ходе повествования слишком властвует над всеми событиями. Да и зло пребывает в столь сгущённом облике, что внешнее правдоподобие образной системы несколько нарушается.
— Да что же за наваждение! Что за уродливое видение мира?
— Наваждение и есть.
Можно и ещё приводить примеры такого бесовского видения; а что оно бесовское — несомненно: слишком тянулся Ремизов ко всякой нежити и нечисти. Осторожнее поэтому надо быть с утверждением, будто тяга Ремизова к фольклору есть тяга к светлому народному началу. В самом фольклоре сохранилось немало следов неизжитых языческих верований (бесовских по природе), Ремизов же не просто внимал народному творчеству, но и сам, подлаживаясь под фольклор, создавал свои диковинные образы незримей.
Ильин утверждал: «Он окружён целыми стаями фантастических сущностей, всегда волшебных, полусуществ-полувещей, не то «духов», не то «гномов», не то застывших существ, не то ожившихвещей, не то игрушек, не то чертей; может быть, это призраки, а может быть, и подлинные метафизические естества; они бывают то благие, то злые, и очень часто каверзные и жуткие. Появляются ниоткуда, где другой человек ничего не найдёт и не увидит; утверждаются и пребывают; таинственно молчат, чем-то чреватые; выкидывают какую-нибудь штуку; и исчезают неизвестно куда, иногда оказавши жизненную помощь и вызвав душевное умиление, иногда напугав и навредив… Иногда это такие «существа», что даже не знаешь, представляешь ты их себе, хоть как-нибудь, или нет… Что такое «коловёртыш»? Понятно, что он всё время «вертится» где — то «около», но какой он? А вот какой-то: «трусик не трусик, кургузый и пёстрый, с обвислым, пустым вялым зобом»— «вроде собачьего сына», и просит: «съешьте меня, ради Бога, мне скучно!» А не сродни ли он сологубовской «недотыкомке»? Как представить себе «Ведогонь» или «Ауку»? А «чучелу-чумичелу»? А может быть, лучше совсем не представлять себе «Пробируку» или «двенадцатиглазого Ховалду», чтобы не вышло уж очень отвратительно, до невыносимости?.. Ибо когда сам автор пытается иллюстрировать эту «незримь», то обычно её зримые формы не привлекают, а отталкивают»