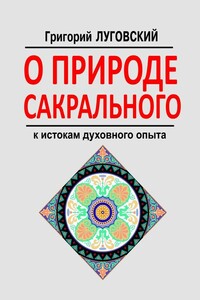Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 70
Но не такова конечная судьба конфликта, когда он совершается на уровне коренных идей в осмыслении бытия. Идейный конфликт, возникающий, в те редкие моменты, когда дети вырабатывают для себя чёткую сознательную программу, намечают определённую серьёзную цель на жизненном пути (скажем также, что и эта цель может оказаться ошибочной, но то уж иной вопрос), — такой конфликт, такое столкновение поколений примирением разрешиться не может. Идейное противостояние ведёт к полному разрыву — к нарушению связи времён. Трагическую природу подобного конфликта раскрыл Тургенев в своём романе.
Такой конфликт всегда трагичен, ибо в нём всегда, явно или неявно, происходит отвержениеотечества, а всякое отечество на небесах и на земле именуется от Отца Господа нашего Иисуса Христа (Еф. 3, 14–15).
Правда, Тургенев этот уровень конфликта не сознавал: писатель видел здесь противостояние прежде всего социальное. Проблема отцов и детей не была новою для русской литературы к тому моменту, когда появился роман с таким названием: её, каждый по-своему, решали и Грибоедов, и Пушкин, и Лермонтов…, Тургеневым же впервые было показано не просто столкновение «века нынешнего и века минувшего», но поколений, принадлежавших к различным социальным слоям общества.
Отцы для писателя — это дворяне. «Вся моя повесть направлена против дворянства как передового класса» (12, 340), — писал он К.Случевскому в апреле 1862 года, вскоре после выхода романа в журнале «Русский вестник». Дворянство — преимущественная тема всей русской литературы первой половины XIX столетия. С каких только сторон ни изображали русскую жизнь! какие споры не порождала она! Теперь, в новую эпоху, Тургенев с суровой прямотой вынес беспощадный приговор поколению отцов, утверждая мысль о разложении, вырождении, общественной несостоятельности дворянства. Эта идея связана в романе с образами братьев Кирсановых, Павла Петровича и Николая Петровича.
Нужно заметить, что писатель выбрал для её доказательства способ очень непростой. Действительно, если ни у кого не может возникнуть сомнения в деградации Иудушки Головлёва («Господа Головлёвы» Салтыкова-Щедрина) или Последыша («Кому на Руси жить хорошо» Некрасова), то братья Кирсановы — люди вполне достойные уважения или хотя бы симпатии со стороны читателя, и на первый взгляд, ни о каком вырождении речи быть не может. Но автор сознательно решил раскрыть свою мысль на примере лучших и достойнейших образцов дворянства. За внешней привлекательностью Кирсановых — «слабость и вялость или ограниченность», полная их непригодность к жизни. «Эстетическое чувство, — писал сам Тургенев, — заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?» (12, 340). Да, подобный способ сложнее, но доказательнее.