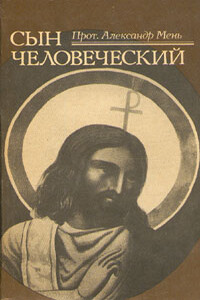Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 67
От общественных проблем Тургенев никогда не отвращался. Он даже и так высказывался: «Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством — а есть интересы высшие поэтических интересов. Момент самопознания и критики так же необходим в развитии народной жизни, как и в жизни отдельного лица»>87. Но ему было мало только социальной критики, только отрицания. Он равно признавал и «пушкинское» и «гоголевское» направления. И прекрасно понимал: в иных тяжких условиях человеку порою может быть не до искусства. Тургенев сознавал: замыкаясь в «бессознательной художественности», чистое искусство насильственно обедняет себя — и грешит, как ни парадоксально, той же самой мундирностью. Он довольно язвительно заметил это Фету: «…Я говорю, что художество — такое великое дело, что целого человека едва на него хватает со всеми его способностями, между прочим и с умом; Вы поражаете ум остракизмом — и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего…Впрочем, оно, конечно, легче, а то, признавши, что правда и там и здесь, что никаким резким определением ничего не определишь, приходится хлопотать, взвешивать обе стороны и т. д. А это скучно. То ли дело брякнуть так, по-военному: «Смирно! Ум — пошёл направо! Марш! стой, равняйсь! Художество! налево— марш, стой, равняйсь»— и чудесно! Стоит только подписать рапорт, что всё, мол, обстоит благополучно» (12, 331–332).
Крайности были Тургеневу не по нутру, он хотел быть слишком самостоятельным в воззрениях, чтобы подлаживаться к кому бы то ни было. А так как он не стремился непременно примкнуть к какой-либо «партии», все считали себя вправе подвергать его своей узкопартийной критике. Особенно ощутимо проявилось это чуть позднее, во время полемики вокруг романа «Отцы и дети», когда удары посыпались на автора со всех сторон. В столкновении двух взглядов на литературу, на её цели — Тургенев увидел то самое противоречие, которое лежало для него в основе всей человеческой жизни, противоборство центробежной и центростремительной сил: революционные демократы воплощали тип деятельного Дон Кихота, замкнутость «чистого искусства», несомненно, заключала в себе рефлектирующую созерцательность гамлетовского начала. Окончательного предпочтения он не мог отдать никому. Непросто складывались и личные отношения Тургенева с молодыми радикалами «Современника», его разрыв с ними был неизбежен — статья Добролюбова лишь ускорила то, что рано или поздно вынуждено было случиться. В столкновении со своими антагонистами Тургенев не мог не задуматься пристальнее над той проблемой, которая послужила ближайшим поводом к разрыву: ведь надежда на появление русского Инсарова не была личной прихотью Добролюбова — в том слышалось писателю требование времени. Да и не мог он, несмотря ни на что, не тяготеть внутренне к революционерам — он, предпочитавший Прометея. Анненков опять-таки верно заметил, что в истории с «Современником» «сформировался как план нового романа «Отцы и дети», так и облик главного его лица — Базарова»