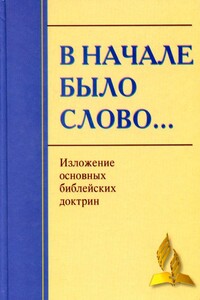Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 138
«Закон разумной необходимости есть первее всего уничтожение личности (мне же, дескать, будет хуже, если нарушу порядок. Не по любви работаю на брата моего, а потому что мне это выгодно самому). Христианство же, напротив, наиболее провозглашает свободу личности. Не стесняет никаким математическим законом.
Веруй, если хочешь, сердцем»>166. Заметим также: Достоевский прекрасно видел, что и внутри христианства может возникнуть соблазн выгоды, но этому рациональному соблазну (в неправославных конфессиях) противится в человеке живое непосредственное чувство, стоящее над рассудком: «И по христианству, и из самих слов Христа можно тоже вывесть, что любовь есть выгода, по крайней мере принимать выгоду, но делаю я всё же не для выгоды, а для любви. Не хочу зла и т. д.»>167.
Логика Чернышевского прозрачна, но и примитивна. Счастье человека основано на счастье других? А вот Тургенев (вспомним) утверждал — основываясь не на упражнениях голого рассудка, но на горьком житейском опыте: «…счастье каждого человека основано на несчастии другого». Это из романа об Инсарове. Неужто у русского Инсарова всё иначе? Сопоставить два суждения — и вся логика, столь искусно выстроенная, рушится. Потому что логика Чернышевского не выходит из системы дважды два четыре. К примеру, обосновывая необходимость общественной формы собственности, автор приводит такие вычисления героев: покупка пяти зонтиков обойдётся дешевле, нежели пятидесяти, — и тем как бы доказывает выгодность социалистического уклада. Дважды два четыре. А человеку — вот нелогическое существо! — хочется дважды два пять. Хрустальное счастье на поверку выходит хрупким — неизбежно ему разбиться.
«Подпольный человек» Достоевского разбивает всё единым махом: «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся?…О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещённым и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтобы человек действовал только из одной собственной своей выгоды? <…> Выгода! Что такое выгода? Да и берёте ли вы на себя совершенно точно определить, в чём именно человеческая выгода состоит? А что если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? <…> Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; <…> что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но ещё далеко не приучился поступать так, как ему разум и науки указывают. Но всё-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую.