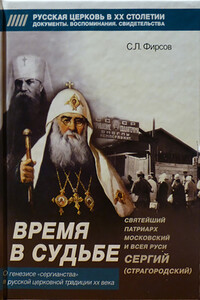Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 128
«Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53, 9).
Это то место, где содержится прямое пророчество о грядущем Богочеловеке. Вот они, «новые люди»— обыкновенные, как… Христос. А Рахметов — выше. Или же тут обожение совершается прямо на глазах?
Нетрудно разглядеть, что в романе Чернышевского облик особенного человека внешне строится по канонам христианской аскетики. Вообще, все эти понятия — святой, пророк и т. п. — обильно используются при разговоре о революционерах, о положительных (с позиции того, кто говорит) героях истории вообще — в литературе, искусстве, публицистике, в социальной науке — вплоть до наших дней. Не случайно последователи Чернышевского в своей прокламации дали парафраз известных слов Спасителя: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30).
В прокламации: «Помни, что кто тогда будет не с нами, тот будет против; кто против — наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами»>156. Так зримо проявляется в данном сопоставлении мысль, возводимая к бл. Августину: дьявол — обезьяна Бога. Но здесь — страшная обезьяна. И так очевидна здесь разница между полнотою Истины и тоталитарными притязаниями на истинность бесовского деяния. Любопытна одна ссылка Рахметова на Евангелие: в том эпизоде, где он корит Веру Павловну за намерение оставить мастерскую: «Теперь, я не говорю уже о том, что вы разрушали благосостояние пятидесяти человек, — что значит пятьдесят человек! — вы вредили делу человечества, изменяли делу прогресса. Это, Вера Павловна, то, что на церковном языке называется грехом против духа святого, — грехом, о котором говорится, что всякий другой грех может быть отпущен человеку, но этот — никак, никогда» (282). Рахметов имеет в виду стих, следующий сразу после того, какой переложили составители прокламации (полюбилось им это место!):
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам…» (Мф. 12, 31).
По толкованию Святых Отцов Христос имеет здесь в виду выступление человека против Самого Бога и приближение человеческого духа к злому духу>157. Рахметов же разумеет измену делу прогресса, то есть на место Бога ставит сокровища на земле. Попутно революционер с пренебрежением отмахивается как от чего-то незначащего — от судьбы пятидесяти человек: что они рядом с «делом человечества». Позднее Достоевский точно заметит, что претендующие на любовь к человечеству легко проявляют равнодушие к человеку конкретному. Рахметов — тому подтверждение. Равно как и все прочие революционеры, действовавшие в истории. Вообще слова Рахметова Вере Павловне есть прямое проявление хулы на Святого Духа: они полностью подпадают под святоотеческое толкование. Но претензия-то — поразительна: кто-то ведь может принять за чистую монету. Обезьяна прикидывается умело.