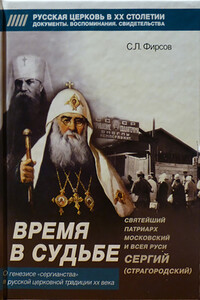Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 125
Дерзнём предположить: не является ли роман, помимо всего прочего, и актом скрытого самовосхваления автора? Хотя открыто он и пытается принизить себя при сопоставлении с Рахметовым. Но важнее, нежели эти внутренние проблемы романиста, его понимание революционного дела. Обратимся к другим текстам того же времени. В опубликованном Герценом (в «Колоколе») за подписью «Русский Человек» письме из России (1 марта 1860 г.), авторство которого приписывается Чернышевскому (не он, так кто-то из близких ему — несомненно), прозвучал призыв: «К топору зовите Русь!». В прокламации «Молодая Россия» (май 1862 г.), написанной единомышленником Чернышевского студентом Зайчневским, говорилось яснее ясного: «Мы будем последовательнее великих террористов 1792 г. Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придётся пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 1790-х годах… С полной верою в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: к топору!»>153.
Вот дело, к которому звал автора его персонаж. Если даже конкретно он имел в виду нечто иное. Сопоставим с ленинским признанием: «без якобинской чистки нельзя произвести революцию», «без якобинского насилия диктатура пролетариата выхолощенное от всякого содержания слово»>154. Правда, революционеры того поколения, Чернышевские и Рахметовы, готовы были пролить и собственную кровь ради прочности революционного дела. В их «символ веры» входил призыв, отчеканенный в строках Некрасова:
Иди и гибни безупрёчно.
Умрёшь недаром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь…>155
Рахметов и впрямь «проливает кровь»— в романе: устраивает себе испытание, целую ночь лежит на гвоздях. Тут ведь тоже зашифрована мысль: особенные люди готовы, жертвуя собою, пролить кровь, они не остановятся ни перед какими тяготами и трудностями. Эти люди, не убоявшиеся железных гвоздей, способны на подобное, ибо сами сделаны из железа. Вспомним «железного Инсарова», вспомним реальных «железных большевиков» (вспомним: «гвозди бы делать из этих людей…»). Всё прозрачно ясно.
На уровне же житейском это деяние Рахметова также имеет особый смысл. Только бездумный авантюрист бросается в неизведанное дело, не испытав себя. Сильный и мужественный ум сознаёт: революционное дело слишком многотрудно, чтобы безоглядно предаться ему, — так можно лишь погубить себя, да и само дело. И всегда: принимаясь за дело, нужно знать, годен ли ты к нему, чтобы не вышло анекдота («Вы умеете играть на скрипке? — Не знаю: не пробовал»). Рахметов именно