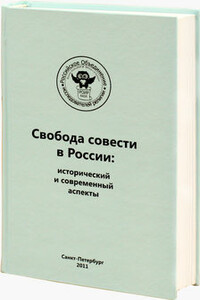Православие и русская литература в 6 частях. Часть 3 (II том) | страница 123
Отношение к религии, к Православию — автор шифрует неизбежно, но разгадать шифр нетрудно: как и всегда, он в простейшей логике. Так, Кирсанов учится французскому языку, читая Евангелие: прочёл несколько раз, пока не стало всё понятно (любопытно, что же он там понял), и отложил за дальнейшей ненадобностью — а догадливый читатель разумеет: ни на что иное эта книга не годна. В другом месте романа Рахметов берётся за чтение ньютоновских «Замечаний о пророчествах Даниила и Апокалипсисе св. Иоанна». «Он с усердным наслаждением принялся читать книгу, которую в последние сто лет едва ли кто читал, кроме корректоров её: читать её для кого бы то ни было, кроме Рахметова, то же самое. что есть песок или опилки» (256). Пренебрежительно-ироничный тон относится здесь не к конкретной книге, разумеется, а к литературе такого рода вообще. Ньютон же выбран автором с определённой целью: для простоты шифра. Рахметов так комментирует свой интерес: «Да, эта сторона знания до сих пор оставалась для меня без капитального основания. <…> Классический источник по вопросу о смешении безумия с умом» (256). Остаётся лишь разобраться: что есть ум и что безумие. Ум Ньютона, великого учёного, заключён несомненно в его занятиях наукою. Без-умие— в обращении к религии. Куда ж яснее? Любопытно, что «передовых взглядов» священник Мерцалов, и священником-то ставший по вынуждающим обстоятельствам, читает — «то ли Людовика XIV, то ли кого другого из той же династии» (140). Что за странное чтение? И впрямь несуразное, если забыть, что несколькими страницами ранее один из невежественных персонажей романа перепутал французского короля с Фейербахом. А Фейербаха и Рахметов может признать весьма порядочным чтением. Рахметов же ошибиться не может.
Рахметов с самого начала имел цель вполне определённую. А что Чернышевского нельзя отделять от его героя (и цели у них едины) — то зашифровано в небольшом отрывке, в загадочном и пустом внешне разговоре, который произошёл однажды между автором и названным персонажем романа: «Мы потолковали с полчаса; о чём толковали, это всё равно; довольно того, что он говорил: «надобно», я говорил: «нет»; он говорил: «вы обязаны», я говорил: «нисколько».