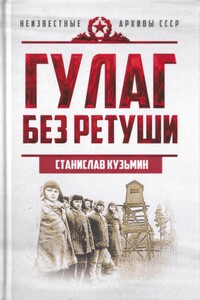Путь к Брехту | страница 30
Все это настолько ясно и сказано так определенно и четко, что остается только удивляться упрямству иных наших режиссеров, все снова и снова пытающихся использовать "эффект очуждения" в целях оправдания эстетской "игры в театр" и самой безудержной стилизации. Они явно упускают при этом из виду, что "эффект очуждения" нельзя ни применить, ни теоретически растолковать, не взяв в расчет цель, которой он служит в концепции Брехта. И если ее сердцевину составляет мысль о необходимости всемерно активизировать зрителя, превратить его из пассивного потребителя чужих истин в их сотворца, то "эффект очуждения" как раз ради этой цели и был разработан. В нем практически конкретизируется та самая возможность спонтанной критики действительности театром, в которой и состоит высшее назначение сценического искусства. Ведь критика, по Брехту, осуществляется как раз _через очуждение_ изображаемых характеров и жизненных ситуаций и от зрителя и от самого актера. "Эффект очуждения", таким образом, _и образует ту специфическую форму, в которой осуществляется в эпическом театре_ важнейшая функция всякого искусства - _критический анализ и оценка действительности_.
Только его функция, подчеркнем это еще раз, вовсе не обязательно является негативной. В равной степени она может быть и позитивной. И если в "Жизни Галилея" "эффект отчуждения", препятствуя нашему вживанию в образ отступившего от истины ученого, способствует остроте нашей критики, то в образе Груше из "Кавказского мелового круга" он, наоборот, позволяет нам отдалиться от нее для того, чтобы яснее, с еще большей аналитической трезвостью осознать нравственную красоту ее поведения. Да и критика в понимании Брехта вовсе не сводится к одному лишь отрицанию, а непременно включает в себя - причем как раз в качестве ведущего! - и некое позитивное начало. "Критическое отношение к реке, - читаем мы в "Малом органоне", заключается в том, что исправляют ее русло, к плодовому дереву - в том, что ему делают прививку, к передвижению в пространстве - в том, что создают новые средства наземного и воздушного транспорта, к обществу - в том, что его преобразовывают" (II, 183).
Все это и надо прежде всего иметь в виду, оценивая возможность применения "эффекта очуждения" в нашем театре. Он ничего не имеет общего ни с мистифицированием аудитории нарочитой странностью художественной трактовки, ни с эстетской игрой в экстравагантную изысканность передачи. Наоборот, его цель состоит в том, чтобы максимально обострить и стимулировать нашу волю к анализу, всемерно провоцируя нас (выражение Брехта) на действенное вмешательство в развертывающиеся перед нами жизненные противоречия. Ведь "искусство перестает быть реалистическим... когда оно изменяет пропорции... настолько, что зрители потерпели бы поражение, если бы практически руководствовались картинами, им созданными" (II, 208).