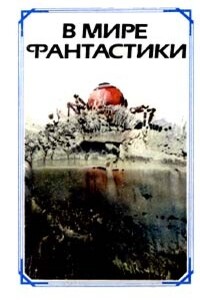Перед последним словом | страница 133
Короткова тупо, не поднимая головы, с мрачноватой твердостью повторила: „Врешь, не убивала!”
Березовский по-прежнему остается спокойным, он нисколько не чувствует себя задетым. Странно ведет себя подсудимая. Уличена, созналась — и вдруг это „врешь”. Может быть, и это вероятнее всего, пока ее везли в Ленинград и держали потом в предварительном заключении, понабралась она опыта у доброхотов-советчиков в камере и решила все отрицать, авось „выгорит”. А так как она все же не уверена в том, что правильно делает, то грубит, не умея найти верный тон. Да, это вероятнее всего. Но что, если в самом деле невиновна? Несмотря на признание? Несмотря на улики? Маловероятно, почти совсем невероятно. Но ведь наперед ничего нельзя исключить. Нет, тут нужно внимание и внимание, ни на мгновение не ослабевающее.
Только не дать себя убедить до того, как все и до конца будет проверено.
Петр Иванович допрашивает Короткову в той своей удивительной по естественности манере, при которой нисколько не ощущается, что допрашивающий имеет огромную власть над допрашиваемым, точно призывает подсудимую вместе, общими усилиями выяснить то, что неясно.
Березовский не спешит уличить в противоречии, не позволяет себе заранее, торопясь, выразить недоверие. Но он отнюдь и не склонен воспринимать любое объяснение подсудимой как истину. Он не скрывает, что вот тут концы с концами не сходятся, что какие-то противоречия выявились, и хотел бы, чтобы подсудимая и по этому поводу дала объяснения.
Не думайте, Петр Иванович Березовский вовсе не уныло монотонен в допросе, его допрос отнюдь не демонстрация судейской невозмутимости. Судья — живой человек, он и улыбнется, и шутку отпустит, и гневное словцо обронит, все это так, но явная и горячая заинтересованность в том, чтобы докопаться до правды, неустанно чувствуется. И уже нет двух процессуальных фигур, неизмеримо отдаленных друг от друга в своей значимости, есть два человека, ведущих между собой жизненно важный разговор. И если в подсудимом осталась хоть крупица совести, то ему гораздо труднее солгать, чем сказать правду, даже если она и неблагоприятна.
Было бы неверно утверждать, что под влиянием допроса Короткова тут же переродилась, стала мягкой, раскрытой. Нет, она оставалась и мрачноватой, и раздраженной, и словно недоумевающей. Но она убедилась, что ей готовы поверить, если она скажет правду. И она стала рассказывать.
С Сергеем Журавленко до его отъезда в Свердловск они встречались целый год. А когда он уехал, то писал ей письма. И в Свердловск звал. Это верно, он не писал ей „приедешь — поженимся”, но ведь ясно, что звал для того, чтобы взять замуж, а не за тем, чтобы вместе в кино ходить. Сергей срока не указывал, когда ей приехать, но он написал, что недели через две для какой-то работы его ушлют надолго, может быть, на полгода, а то и того больше, вот она и поняла, что дальше ей тянуть нельзя. И Мария Прокофьевна, хоть и мачеха, а для нее мать родная, тоже настаивала: поезжай да поезжай! И советовала: писать заранее о приезде незачем, нежданно приедешь, Сергей еще больше обрадуется. А касаемо того, что на станцию пришла перед самым поездом, так ведь узнать сначала надобно, откуда она на станцию шла.