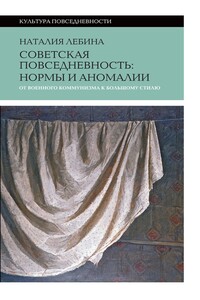История частной жизни. Том 3: От Ренессанса до эпохи Просвещения | страница 22
Участники аристократических мятежей могли существовать на те средства, которые им обеспечивали должности в полках, доверенных их покровителям, и они стремились исполнять свои обязанности с отличием, блистая отвагой в бою и хитростью в совете. Они жили и умирали за счет короля, а в случае победы — за счет врага. Надо было уметь вовремя оставить командование и военную службу, когда наступал период бездействия или когда человеческие потери, наблюдаемые с самого близкого расстояния, не приносили продвижения — что было верным признаком забвения или выхода из фавора. Стоило ли в таком случае жить на те вспомоществования, которые обеспечивались щедростью принцев? Судя по поведению Кампьона, этого следовало избегать. Он сам предпочитал поправлять дела игрой, в которой, с тех пор как он отказался от костей ради трик–трака и различных карточных игр, ему сопутствовала удача. Такие игры не столь блестящи, как те, где правит случай, но тоже сопряжены с риском и, несмотря на удачи и неудачи, вознаграждают честное прилежание. Но доход от милостей и должностей полностью иссякает, когда человек отправляется в изгнание, и тут игра дает лишь временную передышку. Только в изгнании дозволено жить за счет своих покровителей, если необходимость искать убежище была продиктована усердным служением им или же если мятежники добились успеха, который обязывает их к щедрости: «Я сказал ему [герцогу де Вандому], что когда их дела пойдут на лад, то они воздадут мне той же мерой, как я им служил». И хотя потом у Кампьона были основания жаловаться на неблагодарность со стороны этого знатного рода, он признавал, что аккуратно получает назначенный пенсион, и ограничивался сетованиями на то, что обращение стало более отстраненным и менее открытым, чем в прежние времена. Такой тип зависимости в карикатурном виде представляет Таллеман де Рео, по–видимому, желая его высмеять (а не только позабавить читателя): «Один из принадлежавших графу де Люду дворян находился при смерти, и, когда с ним заговорили об исповеди, он ответил: «Я никогда ничего не делал без дозволения господина графа: узнайте, будет ли на то его воля»[16]. В момент прощания с миром преданный слуга проявляет ту же степень слепоты, что и скупец, не желающий вернуть нечестно нажитое добро: не случайно они оказываются рядом в рассказе о «простодушии».
Это чувство «принадлежности», будь его объектом один человек или группа, похоже на привязанности и солидарности, которые обычно ассоциируются с родными и с «родиной». Но, по–видимому, оно более живо и непосредственно, чем отвлеченное представление о долге. Так, Анри Кампьон без стыда признается в любви к азартным играм и к приносимым ими выигрышам и добавляет, что хотя сам не был склонен к ссорам, всегда старался принимать участие в ссорах своих друзей: «Я был доволен, когда мои друзья находились с кем–то в неладах и было можно им услужить, поскольку, по обычаю тех лет, надеялся показать себя в дуэли и связанных с нею действиях». Опять–таки, речь идет о продвижении — что отнюдь не постыдно — своей «фортуны». Тут тот же блеск отваги, что во время военных действий, но выше вероятность получения выгоды, и так как в этой среде внезапные и решительные поступки вызывают восхищение и интерес. Поскольку в общественных структурах преобладала преданность семейного и корпоративного типа, отношения клиентелы, которые вполне можно назвать частными, скорее предоставляли возможность для такого рода вспышек.