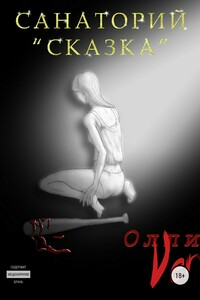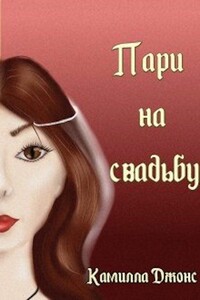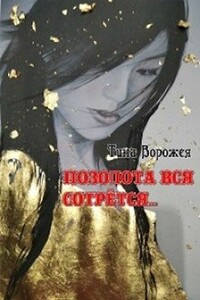В твоем октябре | страница 28
Пробираюсь к журнальному столику, где под толстой книгой покоится начало самого алого утра в моей жизни – тонкая шелковая нить прижата к деревянной столешнице толстым сборником «Солярис» Станислава Лема. Внутри книги – закладка. Открываю – записка, мягким карандашом по плотной кремово-белой бумаге:
«Я очень плохо сплю по ночам, поэтому не обижайся – я спрячусь. А ты побудь со мной еще немного. Только не сломай шею»
Улыбаюсь. Смотрю на страницы, где лежала закладка – на полях тем же карандашом:
«Никак не могу дочитать».
Я смеюсь – «Глас Господа». Мне он тоже дался с огромным трудом. Беру в руки книгу и откладываю в сторону, подцепляя пальцами тонкий шелк – прохладная лента ложится в руку. Скольжу взглядом по лоснящемуся алому и вижу, как течет тонкой линией красный шелк – со стола, над пропастью деревянного пола, плавной дугой вниз, за ножку дивана. Ухмыляюсь. Наматываю на руку ленту и огибаю столик, под диван я, естественно, не залезаю, но нахожу продолжение с другой стороны – тяну за него. Лента вьется наверх, я протискиваюсь среди тонкой паутины, чувствуя, как скользят по коже полосы алого утра. Мне приходится встать на цыпочки, потому что лента свернулась в тугой узел на декоративной перекладине, которая довольно высоко, и, вытягиваясь во весь рост, я улыбаюсь и пыхчу:
– Массовик-затейник, блин.
Красная лента ведет меня к светильникам на стенах, возвращает к левой ножке журнального столика, где я снимаю виток за витком, а клубок красной ленты растет в моих руках. От столика – к небольшому комоду, и здесь лента ныряет внутрь. Я заглядываю в верхний ящик – там, в красных витках тонкого шелка, как в объятиях ласковой любовницы, прячутся мужские наручные часы. Распутываю и беру их в руки – массивные, тяжелые, лаконично-строгие, очень дорогие. Провожу пальцем по стеклу циферблата, и мне кажется, что я вот-вот уловлю тепло его запястья. Никаких надписей, гравировки, потертостей – они новые, и это не памятный подарок. Ты любишь хорошие часы? Улыбаюсь, поворачиваю их, открываю застежку, прикасаюсь к металлу – очень красивые. Надеваю на левую руку и долго рассматриваю – они свисают с запястья. Велики, но не слишком.
Итак, тебе нравится Станислав Лем и дорогие часы. Хорошо.
Лента ведет меня дальше, мимо картин на стенах, мимо оконных рам, возвращая меня к люстре, где я справилась лишь благодаря пресловутому журнальному столику, просто перебросив клубок через тонкое переплетение стальных узоров, спускаясь к самому полу, прокатывая клубок под одним из кресел, поднимаюсь на ноги и снова иду к стене – и там, обращаясь к тыльной стороне большого зеркала, узнаю, как сильно он похож на отца – фотография запечатлела практически одно лицо, но на разных временных отрезках. Вот только глаза у них разные – у его отца очень спокойный, мягкий, теплый взгляд. Полная противоположность сыну. Но сама фотография сказала мне гораздо больше – меленькая, не больше визитки, такая, чтобы вмещалась в бумажник. Края сильно потрепанные, сама фотография не столько старая, сколько изношенная. Такие личные вещи говорят так откровенно, что заставляют бессильно кусать губы – если самое дорогое в жизни человека имеет походный вариант, значит вся жизнь человека – дорога. Паутина становится прозрачнее и реже – слой за слоем я сматываю в клубок красную ленту и знания о том, что он любит, где бывал, чего боится. Дорогие часы, «Глас Господа», хорошие сигареты, его друзья, коих всего четверо (для сравнения – у меня их нет вообще). Вена, Токио, Лондон, Оттава, Осло, Берн, Нью-Дели, Пекин, Прага – Господи, до чего же огромен твой мир, а я сижу в своем городе, сколько себя помню. Тихая, спокойная старость и… таблетки.