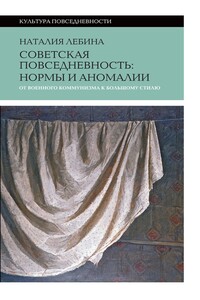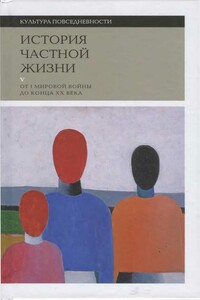История частной жизни. Том 2. Европа от феодализма до Ренессанса | страница 24
Народ–богомолец, таким образом, неизбежно уподобляется гигантской группе домочадцев, расселившихся по многочисленным домам, каждый из которых находится под покровительством святого или Девы Марии, домам зазывающим, связанным между собой в большую расширяющуюся сеть и привлекающим все новых и новых жителей. В XI веке даже грезилось, что все человечество примкнет к штату небесной прислуги, разместившись по отдельным отсекам общего жилища. Эта мечта подогревала начинание поборников Божьего мира. Они хотели сдержать напор власти, исходивший из замков, воздвигнуть на ее пути новые преграды, уберечь от нее определенные места и моменты времени, установив пределы еще одного частного пространства — пространства, принадлежащего Богу. Нарушать privacy этого пространства, разворовывать храмы, мародерствовать на окружающей их территории, отмеченной крестом, на «кладбищах», в «спасенных» местах, не оставляя это занятие даже в дни, посвященные Богу, — значит не считаться с Его всемогуществом, навлекать на себя Его — личную — месть. Поднять руку на мужчину или на женщину, которые по своему положению считались принадлежащими Его дому — на клирика или монаха, одинокую женщину или нищего, — значит не считаться с Ним. Стремиться захватить тех, кому Он оказал свое безмерное гостеприимство в одном из своих убежищ, открытых для безоружных, беглецов, Его гостей, находящихся под Его mundium[18], под Его рукой, — значит не считаться с Ним.
Одно из следствий образования сакрализованной частной сферы путем установления Божьего мира и перемирия — создание условий для собирания общины, то есть благоприятной ситуации для организации публичного пространства. Церкви, где людей крестили, где мертвым отпускали грехи, стали местом формирования маленьких закрытых сообществ, состоящих из местных прихожан, многие из которых в XI–XII веках обосновались под сенью церкви, на неприкосновенной территории, защищенной от насилия предписаниями о мире. Собирая и сплачивая «бедных» по принципу соседства, такие деревенские «спайки» способствовали объединению крестьянских дворов, дающему отпор всякому вторжению извне, и те, кто состоял в нем, обладая наравне с другими совместным правом пользования частью невозделанных земель, лучше справлялись с сеньориальными требованиями. В некоторых таких сообществах, чаще всего в небольших поселениях, оживленных подъемом торговли, сплоченность и «дружба» институционализировались, будучи закреплены сохранившимися с незапамятных времен практиками сотрапезничества, которые периодически собирали вместе членов таких союзов взаимной обороны за общим столом — не столько за едой, сколько, и главным образом, за выпивкой. Институционализация выражалась также через ритуал коллективных клятв, который движение за мир вменило воинам, чтобы обезвредить зачинщиков беспорядков, связав их узами пацифистских обязательств, и который, будучи перенесен в среду простолюдинов, сплачивал глав домохозяйств того или иного поселения. Внутри таких союзов было принято сохранять «единодушие» — душевное согласие — без всякого вмешательства власти, через дружеские связи, через поддержку «соседской руки», как говорится в кутюмах бурга Клюни, записанных в 1166 году. Соответственно, и в частную жизнь, и в «семью» так называемая публичная власть вторгалась только в случаях fractus villae, когда все сообщество потрясало какое–нибудь серьезное преступление из разряда «общественно» опасных — прелюбодеяние или кража: в этих случаях граф оставлял за собой право преследования, вплоть до вторжения на территорию собора, даже если виновники находились в личной зависимости от епископа и каноников.