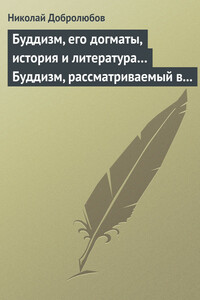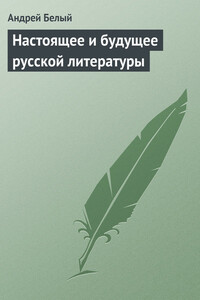«Рублевский» жанр нашей литературы | страница 4
Но, как говорится, бог с ними — с теми Англией и Францией. Нам бы со своей страной разобраться.
Бесконечные кровавые интриги магнатов в борьбе за власть — самая, пожалуй, характерная черта той эпохи. «Знаешь, какие страсти бушевали, когда польский трон делили? Август [саксонский] на него сел не только потому, что россияне поддержали да партия Чарторыйских, но и потому, что остальные не могли друг друга одолеть и решили: пусть ни вашим, ни нашим». Эти политические игрища, в которые поневоле оказывается втянутой вся несчастная страна, — порождают и все прочие беды. Известное дело: паны дерутся, а у мужиков чубы трещат.
Честно представил автор на наш суд порочные нравы и образ жизни этой касты «небожителей», а мог ведь возникнуть соблазн впасть в умиленное приукрашивание «родной» аристократии — хотя бы «назло» многолетней традиции изображать нас, белорусов, исключительно нацией мужиков. Так, поначалу и юный шляхтич Прантиш, воспитанный на «рыцарских идеалах» шляхетства, пропитан «по самую макушку» кастовыми предрассудками... Но автору истина дороже. Не идеализирует Л. Рублевская знаменитый «сарматский» принцип «равенства» в шляхетском сословии, не зависевший якобы от титула, состояния и должности. «Известно, шляхтич к шляхтичу должен обращаться «пан-брат», как к равному, независимо — магнат ты или «посконный», у которого ни одного холопа не имеется. Но в действительности шитый золотом кунтуш облезлому соболю не ровня. С братьями Володковичами, что с Радзивиллами водятся, столкнешься не в добрый час... сто и одна плеть обеспечены. Ни за понюшку табаку — так, для форсу».
Как известно, короля играет его свита. Так и за каждым большим паном тянулся огромный шлейф из мелкой шляхты, в чьи обязанности входило изо всех сил доказывать, что именно их пан — самый важный: сытный кусок за панским столом надо было отрабатывать. И издевки пана принимать как неизбежное приложение к тому сытному куску...
Распущенность магнатов, как следствие их полной безответственности и безнаказанности, прямо-таки вопиет. Вот старший брат будущего короля Станислава Понятовского, Юзеф, «по Варшаве в карете разъезжает в компании любовницы Юзефки... А та — в костюме Евы, прости Господи...». Вот полоцкий воевода Александр Сапега «добивается булавы польного гетмана литовского; говорят, дал кабинет-министру королевскому немерено денег... даже жену свою подослал к его сыну, чтобы своими прелестями одарила. Бесчестья огрёб, но ничего не добыл».