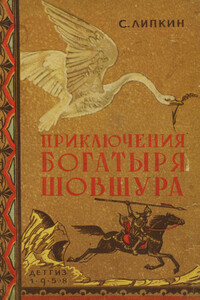Угль, пылающий огнем | страница 18
— Это ядовитый плод болезненно цветущего ствола. Стилизация не дело поэта.
— Но вы же сами советовали мне следовать за Тыняновым, учиться у него воспроизводить речевой стиль эпохи.
— Тынянов возродил живые голоса времени, а Кузмин в «Форели» обезьянничает.
Я не согласился, прочел:
Или это:
— Да, хорошо. Но Кузмину лучше удаются свободные метры. Птица певчая:
Я любил, знал почти всю книгу наизусть — «Версты» Цветаевой. Стихов ее, написанных в эмиграции, я в те годы не знал. И вот попалась мне «Царь-девица». Вещь мне не понравилась. Мандельштам со мной согласился. «Я антицветаевец», — сказал он, озорничая, и стал резко критиковать подругу своей юности. Из потока слов я запомнил фразу: «Ее переносы утомительны. Они выходят не в прозу — признак высокой поэзии, — а в стилизацию. Она слышит ритм, но лишь слуховым аппаратом, ухом, а этого мало».
Опять ритм! И возникает в памяти замечание Мандельштама о Петрарке:
— Его сонеты скучно переводят пятистопным ямбом или театральным александрийцем, и беззаконная страсть монаха превращается в переводах в адвокатскую напыщенность. Послушайте его почти уличную итальянскую речь.
Он прочел несколько сонетов Петрарки в подлиннике, один или два наизусть, другие — глядя в книгу, прочел так, как обычно читал собственные стихи. То было почти пение.
— Мне кажется, — сказал я, имея в виду размер, — что русской кальки не получится.
— И пусть не получается! Вообще стихи переводить не надо. В переводе можно читать только прозу, стихи следует читать только в подлиннике. Напрасно вы начинаете заниматься переводами, потом пожалеете.
Он был неправ. Я не пожалел и не жалею. Конечно, и дрянь приходилось перекладывать на язык родных осин, но переводя классику, я узнал Восток — мусульманский, индуистский, буддийский, его древнюю поэзию, его еще более древний эпос. Для Мандельштама переводы были сущей пыткой (из его переводов мне по-настоящему нравится только тот сонет Петрарки, где шепот клятв каленых), Ахматова, переводя, испытывала удовлетворение крайне редко, а Пастернак и Заболоцкий переводили с увлечением.
Не столь пристрастный, какой оказалась Надежда Яковлевна, Мандельштам довольно часто и горячо менял свои суждения. Отрицая значительного поэта (например, Заболоцкого или Вагинова), он вдруг, ни с того ни с сего, начинал хвалить заурядного стихотворца, да еще, на мой взгляд, ему чуждого. Так мне запомнились неожиданные для меня похвалы Кирсанову.