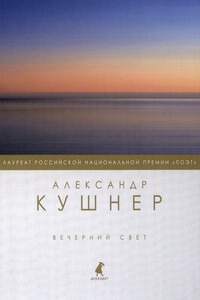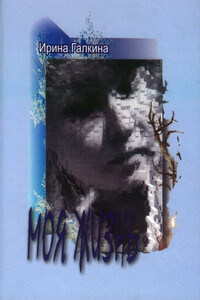Шкатулка с тройным дном | страница 51
Но мы теперь знаем, откуда — из Парижа! Оттуда, где еще жила Судейкина. И музыка, чудом найденная, начинает сразу же свой диктат, не зря слово «чудо», рифмующееся с «ниоткуда», — уже во второй строке «Вестника», который я приведу в его первоначальном варианте, — в том, каким он был услышан из первых уст Лидией Чуковской и соответствует первому варианту в «Поэме…»:
Логично, что этот вариант «Вестника» поделен, хоть и не на равные части, звездочкой. И во второй части «Вестника» есть нечто, относящееся к Цветаевой, но это нечто настолько предположительно, что, право, не знаю, обращать ли к нему читательский слух. А вот в первых двенадцати стихах вновь — их там трое: Автор, Цветаева и Ольга Судейкина. И теперь, всматриваясь в третье дно шкатулки, где, воспользовавшись строкой юной Цветаевой — «Уходят в себя зеркала», — постараюсь показать читателю родную мать музыки. Прокомментирую для этого почти все строки и отдельные слова.
«Ты в Россию пришла ниоткуда» — я, собственно, уже разъяснила. Добавлю, что звезду из «страшного ниоткуда» я не бессмысленно сделала эпиграфом. Невольно вспоминался мне Господин Луны, который в пьесе Цветаевой «Метель» (1918 г.) и приходит словно бы ниоткуда, и исчезает в заметеленную ночь в никуда, как из одного запорошенного вьюжным дыханьем зеркала в другое.
«Петербургская кукла, актерка» — казалось бы, имеет отношение только к Судейкиной. Но если учесть то, как я пыталась доказать, разбирая «пересмешника», что для Ахматовой Цветаева — актерка, то и тут я вижу контаминацию прототипов Судейкиной и Цветаевой. Об этом, хоть и непоследовательно, поведу речь.