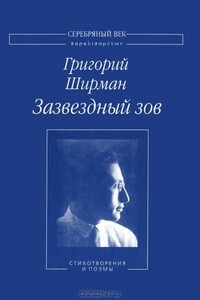Шкатулка с тройным дном | страница 26
…Меня закрутило и отнесло бурным потоком сознания от «черного куста». Еще бы! Только сейчас я, жительница сталинской «эпохи», обрела смутную надежду, да и очень зыбкую: восстановим мы Душу-живу нашего народа, хоть это потруднее, чем было нашим отцам выиграть Отечественную войну. А то ведь с восьмилетнего возраста я ощущала себя во времени: и стоящей перед угрозой «наводнения», и барахтающейся в нем, и сходящей с ума при виде «черного куста».
Кстати, «черный куст», вырванный из почвы контекста, зрительно воспринимается как знак пожара, который и будет происходить в «Либретто балета», а намек на этот пожар уже есть в Поэме: «Ветер рвал со стены афиши, // Дым плясал вприсядку на крыше…»
Но вернусь к «Позднему ответу». После «что ты прячешься в черных кустах» идут строки:
Первую строчку можно объяснить как метафору: «дырявый скворешник» — наши беззащитные перед произволом власти жилища, про которые никто из нас не может сказать: мой дом — моя крепость. Но за этой строкой стоит и литературная реальность: «Ты будешь разрушен, высокий Приамов скворешник». Эта прямая перекличка с Мандельштамом укрепляет мою мысль о том, что и в Поэме «двойники» Ахматовой — поэты. А погибшие кресты? Не те ли это колокола, которые Петр переплавлял на пушки? Не те ли это колокола и кресты, которые были сброшены с храмов варварами XX столетия в адскую плавильню? Очевидно, те, но только в иносказательном смысле. Однако Ахматова даже иносказание подкрепляла зрительной конкретностью. А как можно увидеть то, что расплавлено? Может быть, порывшись в ахматовской или не в ахматовской «укладке», я еще узнаю, о каких именно погибших крестах идет речь в «Позднем ответе» 9 Тем более что следующая его строка «то кричишь из Маринкиной башни» еще раз доказывает, что возможное иносказание Ахматова подкрепляет зрительной реальностью.
Этой строке, в частности «башне», я должна уделить еще не одну страницу в данной главе. Начну с замечательного по своей краткости и достоверности комментария Л. Ч. (II том «Записок об Анне Ахматовой»): «Маринкиной» именуется одна из башен Коломенского Кремля; по преданию, там была и скончалась Марина Мнишек». Образ Марины Мнишек — один из образов, нередко встречающихся в поэзии Цветаевой; а припомнить Коломенский Кремль, говоря о Цветаевой, тоже естественно: Марина Ивановна провела детство и юность в Тарусе (тогдашней Калужской губернии) неподалеку от Коломны. Для Ахматовой же «Маринкина башня» — совершенная реальность: в июне 1936 года она посетила Коломенский Кремль и повидала «Маринкину башню».