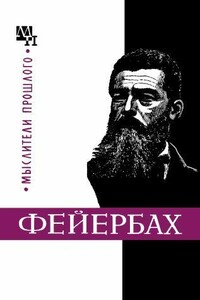Враги и фальсификаторы марксизма | страница 14
Познакомимся ближе с тем, какое идеалистическое течение представляет «материализм» Цильзеля в отличие от неокантианства Адлера. Материалистическое решение основного вопроса философии — вопроса об отношении мышления к бытию — Цильзель отвергает, но он признает замкнутую физическую причинность и такую связь психического ряда с физическим, которая известна под именем психофизического параллелизма. При этом физический и психический ряд понимаются им как отношения… нейтральных элементов. Отказавшись от материалистического решения основного вопроса философии, Цильзель придерживается понимания мира опыта как совокупности нейтральных элементов и их отношений. Словом, перед нами старый знакомый, старый враг>; — откровенный махизм. Цильзель вовсе и не скрывает, что этикетка «материализм» наклеивается им «в интересах понимания масс» на махистско-рёсселевское учение, т. е. на чистокровный субъективный идеализм берклеанско-юмистского происхождения. «Das also war des Pudels Kern» («Так вот в чем пуделя нутро!»).
Полемика между Цильзелем и Адлером оказывается таким образом полемикой, во-первых, по вопросу о том, следует ли заменить марксизм неокантианством или махизмом, и, во-вторых, целесообразно ли при этом сохранить этикетку «материализм».
Но здесь в дискуссию вмешивается третий партнер — Вильгельм Франк. Для этого «социалистического» «теоретика» идеализм Цильзеля оказывается недостаточно реакционным, недостаточно мистическим. Франк отвергает утверждение Цильзеля, что вне связи с головным мозгом не существует никаких душевных явлений, он отвергает признание зависимости психических процессов от физических и признает лишь их одновременность. Но суть выступления Франка — не в этих психофизических «поправках» и даже не в трафаретной полемике против материалистического понимания истории, — его побудили выступить почуявшиеся ему в статье Цильзеля недостаточно почтительные отзывы о… христианской религии. Не дать в обиду деву Марию и ее потомство, поставить на должное место в социал-фашистской идеологии «Закон» и «Пророки», — вот что послужило «товарищу» Франку побудительным мотивом сказать свое слово на страницах издаваемого председателем II Интернационала журнала. Но послушаем самого святого Вильгельма: «Несовместимое с религиозным мировоззрением толкование марксистского понимания истории (как будто возможно совместимое с религиозным мировоззрением его толкование! —