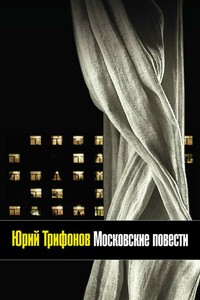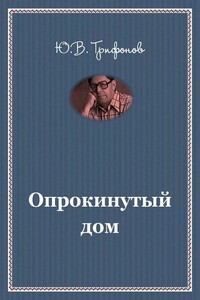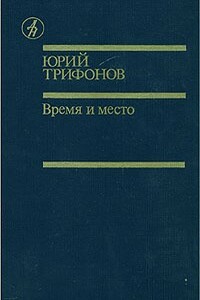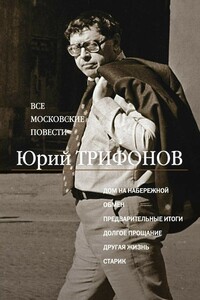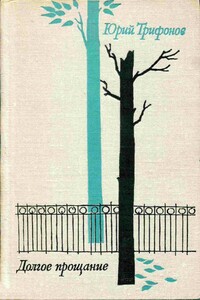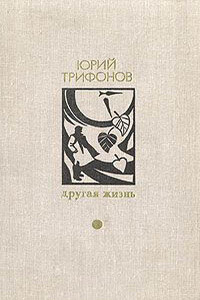Как слово наше отзовется… | страница 27
Петр Верховенский не смог бы вынести всего, что вынес в крепости Нечаев (два года его держали в цепях), но Достоевский не знал об этих подробностях, а если б и знал, его отношение к Нечаеву—Верховенскому, к одному из главных «бесов» столетия, вряд ли поколебалось бы. Злодейская откровенность «Катехизиса…» была тем барьером, который отделял все человеческое от нечеловеческого, и этот барьер был непреодолим даже в понимании. Писатель, который мог оправдать и простить многократных убийц из «Мертвого дома», теперь не находил сил для оправдания. Поразил, может быть, не сам текст, сколько характер того, кто мог создать подобное и в него уверовать. Характер! Это было загадочное, не поддающееся скорому разумению, и оттого Верховенский противоречив, неровен, неясен, смутно его происхождение и не виден конец. Вначале он легковесен, комичен, в нем есть шутовство, затем становится все более зловещим, инфернальным, приобретает черты демонические. Произошло это не потому лишь, что роман писался как бы в два приема — до процесса и после, когда раскрылась фигура Нечаева, — но и благодаря гениальной догадке: там должно быть то, и другое, и третье. Там должно быть много слоев. Верховенский — самый многомерный образ романа. Но главное в нем — злодейская суть.
Достоевский мог острее, чем кто-либо, почувствовать сокрушительную разницу между Нечаевым и вольнодумцами прежних лет, народниками начала 70-х: он сам прошел мученический путь заговорщика, мечтателя, принадлежал к тайному обществу Петрашевского и в 1849 году, осужденный на смертную казнь, стоял на эшафоте, но в последнюю минуту был прощен и отправлен на каторгу. Мир обогатился великой книгой: «Записками из Мертвого дома». Мощь этой книги отдана одному чувству — состраданию.
Но нет ничего более далекого от нечаевщины, чем сострадание.
Хотя Достоевский давно выболел свои юношеские мечты о переустройстве мира в духе Фурье и Кабе (над которыми со знанием дела уже и глумился в «Бесах», вкладывая их в болтовню Степана Верховенского и Кириллова), он, однако, не зачеркивал прошлого, находил мужество и себя считать причастным к распространению болезни, от которой лихорадило не только Россию, но и Европу. В Европе-то она, впрочем, и зародилась. Достоевский писал в статье: «Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы… во дни моей юности… я сам старый нечаевец…» Отличие Нечаева от нечаевцев — тех, кого судили на процессе 1871 года, — заключалось в том, что нечаевцам были доступны такие человеческие чувства, как, скажем, раскаяние, для Нечаева же с его ледяным математическим умом никакое раскаяние, как и сострадание, недоступно. Раскаяние — это ведь и есть сострадание: к самому себе.