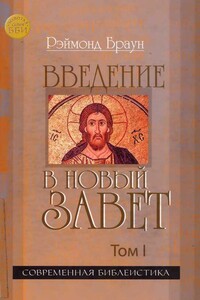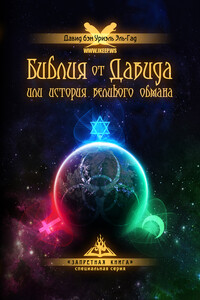Иисус и победа Бога | страница 12
Для Бультмана Иисус был в некотором смысле еще более «неизвестным», чем для Швейцера: «личность» бультмановского Иисуса узнать принципиально невозможно. У Швейцера же именно личность Иисуса шокирует. Швейцер думал, что его предшественники просто неверно нарисовали портрет, а Бультман, — что портрет нарисовать вообще нельзя. Бультман ограничился силуэтом: Иисус, учитель экзистенциального решения, взывает ко всем, кто (подобно Бультману) живет среди социального хаоса, кому нужно доверять своему Богу, каждодневно идти за Ним, даже не видя во мраке настоящего, что случится в будущем. Для полноты картины Швейцеру и Бультману требовалось показать, как Павел воспринял христианство в том виде, в котором Иисус его оставил (каком именно — Швейцер и Бультман расходились), и помог ему обрести востребованность в языческом мире.
Даже там, где симпатий к подобным взглядам не было, почти все книги об Иисусе содержали скрытую предпосылку: когда мы выясним наконец, каким был Иисус, мы найдем драгоценнейшую жемчужину, скрытое сокровище, которое поможет нам в жизни; даже если Иисус окажется обычным и заурядным человеком, будет толк: мы отринем наглые требования Церкви. Никакая история, в том числе и эта, не пишется в вакууме. Поэтому перед нами лежит вторая головоломка, так или иначе связанная с первой. Она состоит из вопросов, которые задают не только христиане, но и все, кто хочет включить в свое мировоззрение столь явно привлекательную фигуру, как Иисус: во что верить? Как жить в современном мире? Лично я от этих вопросов не ухожу и не делаю вид, что они меня не интересуют. В свое время я попытаюсь на них ответить. Будем, однако, помнить: эти головоломки хоть и связаны, но все же разные[20].
Наследие великанов, однако, толкало к мысли, что взаимосвязь между головоломками («кем был Иисус?» и «а нам–то что?») выглядела чрезвычайно слабой. То, что связать их нужно, — это ясно (по крайней мере всем без исключения авторам, которых я знаю). Как это сделать — неясно. Поэтому книги об Иисусе часто получались непоследовательными. Типичный пример — фундаментальный труд Эдварда Схилебекса. Схилебекс тратит сотни страниц, изучая Иисуса просто как человека, а в конце без особой связи с предыдущим обсуждением переходит к исповеданию веры в Иисуса как Сына Божьего[21]. Этот раскол между историей и богословием довлеет над современными западными авторами всех мастей, от крайне ортодоксальных до крайне радикальных. Все они считают, что увязать историю и богословие трудно, а то и невозможно, особенно, когда речь идет об Иисусе