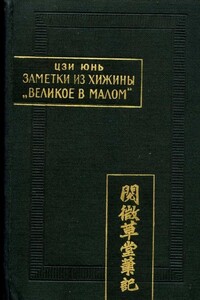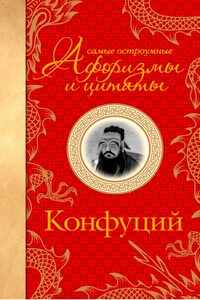Вопросы Милинды | страница 4
Историчность обоих главных персонажей Вопросы Милинды и сама уникальность фигуры царя-иноземца в индийской литературе делают предположение о реально имевшей место встрече и беседе весьма вероятным. Древнейшие части текста ВМ можно считать, таким образом, обобщенным и преломленным отражением случившегося греко-индийского культурного контакта, своего рода индийской его версией. Доля этих частей от общего объема палийского текста невелика и составляет не более 1/5, куда входят отдельные куски кн. I (см. ниже) и почти вся кн. II.
Здесь еще заметны не успевшая стереться инокультурная необычность царя, манера его поведения, способ выражаться; есть и иные свидетельства культурного греческого присутствия. Исходя из этого, допустимо датировать эту часть текста рубежом нашей эры. Созданы данные разделы ВМ были, вероятно, на индийском Северо-Западе, примерно там же, где произошла встреча Менандра с Нагасеной. Поэтому языком подлинника не мог быть пали, неупотребительный в Пенджабе.
Вернее всего предполагать какой-то вариант гибридного санскрита, но не чистый санскрит, ибо частые цитаты и заимствования из Канона никогда не встречаются в литературе в брахмански правильной санскритской форме. В жанровом отношении кн. I квалифицируется как авадана, а кн. II напоминает некоторые образцы канонических сутр, но достаточно своеобразна: синтаксис ее прозрачнее, метода ведения беседы отработаннее, нежели в сутрах, а повествование, помимо реплик собеседников, рудиментарно. Содержательно же кн. II есть философско-доктринальный диалог на буддийские темы, вносящий немало нового в буддийскую мысль.
Прочие части ВМ, составляющие 4/5 объема памятника, дописаны позднее. Никакого греческого влияния, присутствия или колорита в них уже незаметно. Милинда здесь ничем не отличается от обычного индийского царя, он теперь убежденный буддист, соблюдающий обеты, прилежно изучающий Канон и стремящийся разрешить свои сомнения беседой с авторитетным наставником. Стиль кн. III выделяется заметной изысканностью на фоне предыдущих частей текста и обнаруживает знакомство автора не только с канонической буддийской литературой, но и с древнеиндийской поэтикой.
Появляются многочисленные сложные слова, усложняется синтаксис, нередки употребления перфектного причастия в функции сказуемого и конструкции герундивов с различными связками. Немало встречается здесь слов, зафиксированных палийскими словарями только в Вопросы Милинды, но приводимых в «Словаре гибридного санскрита» Эджертона. Отличия языка и авторской манеры свидетельствуют в пользу значительно более позднего создания кн. III.