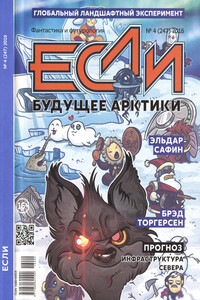ЗНАК ВОПРОСА 1994 № 04 | страница 7
Спрашивается теперь, почему и разбойники не могли устраивать себе наблюдательные пункты на деревьях? Для придорожных засад в лесистой местности эта мера была, пожалуй, и неизбежной.
Вот так под рационалистическим углом зрения «таяли» все птичьи атрибуты Соловья-разбойника. В понимании этого образа наметилась соблазнительная простота. Со страниц некоторых работ конца XIX века, касающихся изложенной концепции, явственно слышится вздох облегчения. «Данное г. Потебней объяснение устраняет необходимость видеть в Соловье сверхъестественное существо, получеловека-птицу», — с удовлетворением констатировал, например, Л. Н. Майков. Все поступки, все черты персонажа стали выглядеть человеческими, а это позволяло, не углубляясь в дебри мифологической фантастики (чем активно занимались до этого многие исследователи), всецело сосредоточиться на поисках реально-исторической основы образа Соловья, которые к тому времени также стали разворачиваться достаточно интенсивно.
Одна область поисков напрашивалась с самого начала: летописи. Если у Соловья был прототип в истории, он должен был буквально поразить современников размахом своих действий, а возможно, и какими-то другими особенностями — и вряд ли столь заметная фигура ускользнула бы от внимания летописцев. Так удалось ли отыскать что-нибудь подобное?
Нашли лишь вот что. Согласно Никоновской летописи, в 1008 году «изымаша хитростию некоею славнаго разбойника, нарицаемаго Могута». Представ перед Владимиром Святославичем, он «вѣекрича зело, и многы слезы испущая из очию», обещал больше не творить зла и жить до конца своих дней в покаянии. От таких слов «Владимер умилися душею и сердцем» и отправил разбойника в дом своего духовного отца, митрополита Ивана, повелев никогда не покидать этот дом. «Могут же, заповедь храня, никакоже исхожаше из дому митрополичя, и крепким и жестоким житием живяше, и умиление и смирение много показа, и провидев свою смерть, с миром почи о Господи».
Не правда ли, по первом чтении трудно даже определить, имеет ли этот рассказ хоть какое-нибудь отношение к нашей теме. Многие ученые, однако, видели в нем историческое зерно былинного сюжета, а некоторые, например, М. Г. Халанский, попросту считали его «древнейшим вариантом былины об Илье Муромце и Соловье-разбойнике».
Что же общего между летописным разбойником и эпическим? Назывались следующие признаки сходства. Во-первых, и того и другого разбойника приводят к киевскому князю Владимиру. Во-вторых, оба в чем-то похоже ведут себя перед князем (один громко вскричал, другой сильно свистнул). В-третьих, участь Соловья-разбойника тоже порой благополучна: некоторые былинные варианты ничего не говорят о его казни, а изредка, вопреки основной версии сюжета, Илья отпускает врага на свободу.