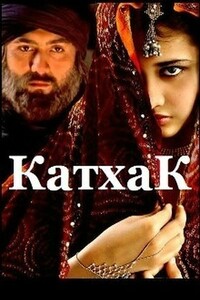Июль для Юлии | страница 4
— Что я должна была ответить? — со смехом спросила княгиня. — Ваше письмо — прости, тороплюсь, все потом… Я испугалась, что вы забыли меня…
— Вас? Разве такое возможно?
Глаза Ольги Александровны засияли:
— Отрадно слышать, Вольдемар. Когда мы увидимся? Через два дня муж уезжает по делам в провинцию, и я останусь совершенно одна в своем огромном скучном доме.
— Это волнует… — граф бросил на Ольгу Александровну один из своих самых опасных взглядов, заставив ее покраснеть.
— Не смотрите так, — низким голосом сказала княгиня. — Вы знаете, что я полностью в вашей власти.
— Тогда я взгляну на Натали. Она прелестна, верно? Кто-то называет ее первой красавицей Петербурга, но я не ошибусь, если скажу, что и в Москве не найти подобной.
— Вы намерены поддразнить меня? Но я не поддамся на провокацию и подтвержу, что мадам Пушкина никогда не была так очаровательна, как в эту зиму. Говорят, император особенно восхищается ею.
— Значит, это правда? — улыбнулся уголками губ Владимир Алексеевич. — Неужели месье Пушкин, этот похититель дамских сердец, увенчан рогами?
— Никто не знает точно, все теряются в догадках. Что до меня, так я уверена — это наветы. Мадам Пушкина красива, как утренняя заря и так же холодна. Думаю, в любом случае, императору было отказано… в ее благосклонности.
— Вы восхитительны, — граф погладил ладонь Ольги Александровны. — Разве найдется еще хоть одна женщина, которая обсуждала бы прелести других женщин с таким равнодушием и сатирой?
— Думаю, что найдется. И не одна. Но берегитесь, если начнете их искать! — отшутилась Ольга Александровна.
Голубки ворковали и не догадывались, что две пары глаз внимательно и недружелюбно разглядывали их.
На оттоманке поодаль сидели и шептались две женщины, пышно и модно разодетые. Одна была полноватая, молодая, с приятным и умным лицом. Наряд ее переливался еле уловимыми оттенками лазурного и голубого, а темные волосы, лиф и рукава украшали букетики фарфоровых эдельвейсов. Собеседницей барышни с эдельвейсами была пожилая женщина с таким пышным веером, что он закрывал и ее лицо, и лицо соседки. Время от времени дамы скрывались за веером, приглушенно ахая и нашептывая что-то друг другу на ушко. Потом выглядывали из-за опахала, и снова глаза их устремлялись на танцующую пару. Всякий, кого спросили о почтенных дамах, сразу бы назвал их фамилию. Это были мать и дочь Самойловы. Мать в свои пятьдесят лет была куда как резва и охоча до сплетен и прочих милых женских забав. Дочь ее, звавшаяся Катериной Ивановной, слыла особой одиозной, и хотя никогда не нарушала правил приличия, не сходила с языка у всего петербургского света. Ее ум и острый язычок отмечал даже сам месье Пушкин, назвавший Катерину Ивановну (разумеется, за глаза) Бритвой. Прозвище было подхвачено и весьма успешно эксплуатировалось (разумеется, так, чтобы не достигнуть ушей самой мадемуазель Самойловой). Находясь на балу у Радзивиллов, Катерина Ивановна изнемогала от справедливого негодования, поверяя свои мысли матушке: