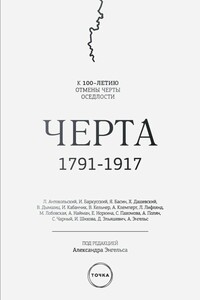Дядя Витя, папин друг. Виктор Шкловский и Роман Якобсон — вблизи | страница 11
, прочитала я, и — стоп! Что-то там оцарапало. Вернулась назад, перечла внимательно в поисках острия. Непонятное слово «эксцентрик»? Я не знала, что оно означает, а «Толковый словарь» к тому времени еще не откопался в моей Снежной библиотеке, но нет, задело что-то другое. А вот оно, нашла! «В голодной Москве... не знал, что... живет плохо» — эта фраза зацепила подозрением: не про нас ли сказано? Ситуация складывалась похожая. Как мы-то живем, мы с мамой, в затемненной военной Москве? Полуголодные в полуразрушенном доме? Выходило, что живем мы плохо. Прежде такая мысль не возникала, она была неприятная, и мне не хотелось ее думать, но не бросать же на полдороге? Стала прикидывать, раскладывая на два столбика, как в тетрадке по арифметике, плюсы и минусы. Минусы были очевидны (холод, печка-буржуйка с жестяной трубой, откуда срывались крупные вонючие капли; карточки и вечный ужас их потерять), считать их я тут же соскучилась: о том талдычили соседки по дому, тетки во дворе, и в уме они зазвучали их, теток и соседок, плаксивыми голосами. А по мне — еда как еда. В отличие от плаксивых теток довоенную еду мои ровесники успели позабыть, мы сравнивали не с мирной жизнью, а с предыдущими двумя годами, и выходило, что сейчас оно и получше: тут тебе не Чистополь, голода-то нет! Куда веселее оказалось считать плюсы, те были мои личные, и набралось их — ого-го! Не так мало радостей мне выпадало. Залезть вечером потихоньку в ледяную простывшую постель — у нас с мамой была одна на двоих — и согреть ее своим теплом, пока мама умывается, и видеть, как она радуется такому сюрпризу! Или встретить ее у метро, а то добраться к ней на работу в журнал «Знамя» и ехать домой вместе. Сварганить удачную тюрю с черным хлебом и луком. Я уж не говорю о восторге от папиного письма, когда посчастливится обнаружить его в почтовом ящике! А книги, моя Снежная библиотека! Книжка каждый день, да и кино случалось не сказать чтобы редко. Книги были частью — прекрасной частью — тогдашней жизни: оживалив буквальном смысле слова, со страниц прочитанного томика перемещаясь на паркет нашей разграбленной и потому великолепно пустой квартиры. С подругой Асей мы играли в трех мушкетеров, она превращалась в Д’Артаньяна, фигуру, с моей точки зрения, сомнительную, но ей симпатичную, а я — в благородного таинственного Атоса — сколько новых сражений и приключений, в том числе невинно-любовных, вписали мы в их биографии и какой великолепный плащ удалось мне смастерить для моего героя, отыскав старый дождевик и налепив вычурный крест из бумаги на его клетчатую изнанку. А свобода, упоительная свобода полубеспризорной жизни: шляйся где вздумается, ходи в школу, когда охота, читай до упаду или пока хватает света, чтобы разбирать буквы, а главное: сочиняй себе ту жизнь, которая тебе подходит, заслоняй ею реальность. Нет, я не знала, что живу плохо, и не желала этого знать. Я не жила плохо. Так я решила тогда и так думаю теперь, три четверти века спустя.
Книги, похожие на Дядя Витя, папин друг. Виктор Шкловский и Роман Якобсон — вблизи