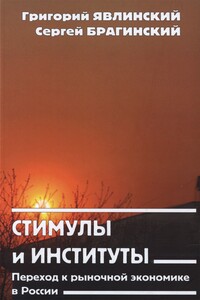Двадцать лет реформ – промежуточные итоги? | страница 7
В стране в начале 1990-х отсутствовали (в их современном значении) денежная и банковская системы, рынок капитала, рынок капитальных благ. Хозяйственное законодательство, соответствующая ему система судопроизводства, механизм охраны контрактного права, механизм защиты прав акционеров и собственников, процедура и механизм банкротства – все это еще предстояло создать. Причем, порядок, последовательность действий имели здесь важнейшее, принципиальное значение: если формирование вышеперечисленных институтов предшествует приватизации и либерализации, формируется одна система отношений и соответствующий ей предпринимательский класс; если оно откладывается «на потом» или происходит по мере возможности – закрепляется совершенно иная система и иной менталитет бизнеса. В нашем случае институциональные реформы хронически отставали от истинных потребностей в них экономики. В результате бизнес-класс исходил из того, что было в реальности, и заменял необходимые институты их эрзацами: вместо полноценной национальной валюты использовал иностранную и бартер, вместо банков – теневой капитал, вместо государственной юстиции – частную, вместо налогов – откуп и так далее.
Последующие попытки создать настоящие институты чаще всего оказывались бесполезными. Создаваемые институты просто стихийно встраивались в уже сложившуюся практику внеправовых отношений, превращаясь либо в инструмент кормления для прикрепленных к ним чиновников, либо в бессмысленную декорацию.
Институциональные реформы, которые были как воздух необходимы для формирования новой экономики, способной решить стоявшие перед страной задачи, фактически были отодвинуты даже не второй, а, скорее, на третий или четвертый план, а главной задачей были провозглашены приватизация, либерализация и финансовая стабилизация. При этом мы, как непосредственные участники политики того периода, категорически не согласны с теми, кто объясняет безальтернативность этого подхода «политической необходимостью», «опасностью возврата к коммунизму», необходимостью построения «бандитского капитализма вместо бандитского коммунизма» [См. подробный анализ А.Н. Илларионова — Илларионов 2010].
Финансовая стабилизация, кстати говоря, на долгие годы превратилась в своего рода фетиш экономической политики, поскольку в наличии бюджетного дефицита и инфляции видели источник всех проблем и главное препятствие для экономического роста. На самом деле было совершенно очевидно, что инфляция, как и бюджетный дефицит, – это всего лишь следствие более глубинных институциональных дефектов системы, и борьба с нею без ликвидации самих дефектов – не осмысленная экономическая политика, а ее бессмысленная имитация.