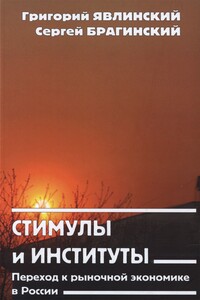Двадцать лет реформ – промежуточные итоги? | страница 22
Сама по себе русская крестьянская община, обладавшая рядом уникальных специфических черт – это своеобразная социальная альтернатива географическому бегству, самодостаточная общность, способная существовать на одном географическом, но в разных ментальных пространствах с государством. Это не означает, что община прямо противостоит государству. Как и буквальное, физическое, бегство, она не предполагает борьбы. Система стабилизируется – с одной стороны, община ограждает народ от государства, с другой – как бы помогает государству контролировать население.
Однако традиционный стереотип отношения общинного сознания к реальному государству, представленному чиновниками – отрицательный, как к чужакам, появление и вмешательство которых ни к чему хорошему привести не может. Покорность «начальству» – это покорность непреодолимым обстоятельствам, а не выражение поддержки конкретному правителю или признание его требований справедливыми. Как замечал Владимир Соловьев, для народа «государство есть лишь необходимое средство, дающее народу возможность жить по-своему, ограждающее его от насилия чужих исторических стихий и обеспечивающее ему известную степень материального благосостояния» [Соловьев 2007, с. 65].
Разрыв между народом и государством и феномен «ухода» – географического и внутреннего – были, по крайней мере, очень значимыми предпосылками того, что переход к новому времени в нашей стране не был эволюционным.
Формирование абсолютистского самодержавного государства, в конце XVII – начале XVIII в. способствовавшее военному, техническому, промышленному развитию, в то же время становилось преградой для социальной модернизации, появлению элементов договорной культуры, закреплению прав сословий9.
Такой исторический выбор вывел российское государство в число главных действующих лиц европейской (что в контексте XVIII в. равнозначно мировой) политики, но отчуждение между народом и государством только усилилось. Европеизация, открывшая дорогу быстрому распространению европейской художественной культуры и моды в дворянской среде, не привела к качественным изменениям в системе «государство – население – внешний мир» и, несмотря на интенсификацию связей с внешним миром, контакты с иностранцами по-прежнему рассматривались властью сквозь призму возможной государственной измены10.
Впоследствии Российская империя испытывала склонность к изоляционизму, закрытости вплоть до антиевропейскости не по тому, что династия Романовых сознательно хранила вековую русскую традицию, восходящую к Ивану Грозному и другим Рюриковичам, или была вынуждена считаться с традиционалистским давлением снизу. Для государства первоочередным было решение насущной задачи: поддержание внешнеполитического влияния с помощью укрепления авторитарного самодержавия, а не сближение с народом на основе идеи гражданских свобод, ограничения власти государя, народного представительства во власти. Все это в той или иной форме казалось властям разрушительными для сложившейся социальнополитической системы, особенно после событий французской революции.