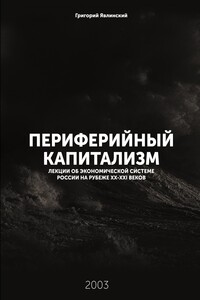Стимулы и институты | страница 37
Довод, основанный на проблеме стимулов, показывает, что коллективистская (корпоративная) экономика требует стабильного иерархического тоталитарного (авторитарного) порядка и строгих мер наказания для тех, кто осмеливается бросить ей вызов. А если учесть еще и тот факт, что иерархи, осуществляющие права собственности, вдобавок и владеют всеми основными фондами, от которых зависит существование людей, участие в продемократическом движении становится весьма дорогостоящим делом, которое может позволить себе лишь небольшое количество исключительно смелых людей («диссидентов»). Выборы, даже если они проводятся, служат только для прикрытия, и экономика становится неотъемлема от тоталитарного (авторитарного) социального порядка.
Однако в отсутствие самонастраивающегося механизма, который создают демократия и свободные выборы, плановая система не может реагировать с необходимой гибкостью на потерю эффективности, вызванную в том числе вторжением денег в ее систему стимулов. Использование здравого смысла в процессе настройки институтов системы исключается или, во всяком случае, серьезно затрудняется. То, что мы наблюдаем в таком случае, является великолепным образцом так называемых «антагонистических противоречий», которые были одной из любимых марксистских тем для обсуждения, и это противоречие не может быть устранено без самоуничтожения системы. Институциональная регулировка может быть проведена только с помощью демократического самонастраивающегося механизма, но введение такого механизма уничтожило бы всю систему коллективной собственности, почему иерархия и оказывает ему такое яростное сопротивление. Таким образом, деньги проникают в социалистическую систему и подрывают ее изнутри, не встречая эффективного политического противостояния. Как только такой процесс достигает определенных масштабов, сама система обречена26. В следующей главе мы более отчетливо сформулируем эту мысль на примере экономической модели. Приведем ряд фактов из опыта плановой экономики и тоталитарного государства в бывшем Советском Союзе для того, чтобы проиллюстрировать теоретические умозаключения.
Главную мысль нижеследующего изложения можно вкратце изложить следующим образом. Тоталитарные власти в бывшем Советском Союзе стремились создать экономический механизм, который, с одной стороны, осуществлял бы технический прогресс и давал промышленный рост, а с другой стороны, гарантировал, что их неограниченному владению достоянием общества и властью не будет брошен вызов. В качестве средства достижения указанных целей была создана тщательно продуманная система планирования. Однако эта система могла функционировать «эффективно» (с точки зрения тоталитарного руководителя) только в том случае, если она была относительно проста и когда все субъекты экономики находились под постоянным жестким прессингом властей, часто включая практически неприкрытое рабство и всеобъемлющий смертельный страх, вызванный суровыми репрессиями. Рядом с этим рабством и страхом шлаидеология, отрицающая частные стимулы к труду и требовавшая полного подчинения воли отдельной личности воле государства. Именно такой была система во времена правления Сталина. Крайне жесткая и бескомпромиссная тоталитарная система, с одной стороны, и атмосфера энтузиазма в выполнении задач «социалистического строительства» — с другой, атмосфера, которая, однако, подпитывалась не только подлинным идейным воодушевлением, но и в значительной степени политическим террором. Все это позволяло плановой экономике показывать достаточно приличные результаты в индустриализации, в экономическом росте и, прежде всего, в строительстве сильной военной машины.