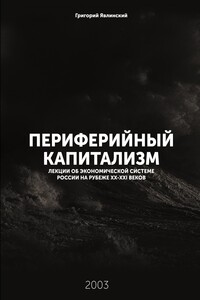. Когда институт иерархии коммунистической партии стал давать сбои, появилась такая же проблема, которая появляется в странах с рыночной экономикой при несрабатывании денежных систем, и равным образом эта проблема производила дестабилизирующий эффект. Как уже упоминалось, ни институциональная система, основанная на частной собственности, ни система, основанная на коллективном владении собственностью, не существовали в своем чистом теоретическом виде. Осуществление частных прав собственности ограничено контрактом и законом, включающим общее право, воплощающее социальные нормы. Оно также ограничено политикой перераспределения доходов, проводимой государством. Осуществление коллективных прав собственности отдельными лицами, занимавшими положение в иерархии Коммунистической партии, было также ограничено, и не только потому, что права собственности носили временный характер. Например, считалось просто невозможным закрыть государственное предприятие и уволить всех рабочих, и ни один член иерархии Коммунистической партии никогда бы не посмел принять такое решение. На самом деле тоталитарное государство (и менеджер государственного предприятия, выступавший агентом государства) сталкивались с почти непреодолимыми препятствиями, когда оказывалось необходимым уволить даже одного единственного пьяницу. Это звучит воистину невероятно для страны, где в то же время (во всяком случае в сталинские времена) любого человека можно было отправить в лагерь по любому самому ничтожному поводу! Природу дилеммы, стоявшей перед номенклатурой нижнего и среднего звена, можно понять, если отметить, что было невозможно заранее угадать, кто окажется сосланным в лагерь — ленивый пьяница-рабочий или чиновник за «отрыв от рабочего класса». Именно такие социальные нормы, в частности, ограничивали осуществление остаточных прав контроля классом номенклатурных владельцев собственности.
Однако происходили и более серьезные срывы в осуществлении прав собственности, основанных на номенклатурной системе, к которым мы хотим сейчас обратиться. Точно так же как рыночная экономика не может полностью игнорировать наличие слабых и бедных и не может не принимать решительных шагов в направлении смешанной экономики, плановая экономика тоже не могла полностью отрицать необходимости индивидуальных стимулов. Таким образом, после непродолжительного эксперимента с «военным коммунизмом», в 1921 году Ленин объявил новую экономическую политику (НЭП), которая привела к появлению некоторых небольших зон, где действовал частный контроль над средствами производства. Впоследствии этой политике дали обратный ход, и спустя несколько лет полностью уничтожили частный сектор в промышленном производстве и торговле, а частный сектор в сельском хозяйстве уничтожили в начале тридцатых годов. И все же остался один сектор, где даже коммунисты продолжали разрешать использовать деньги — сектор частного потребления.