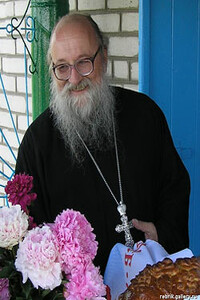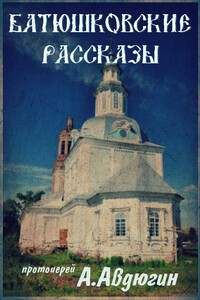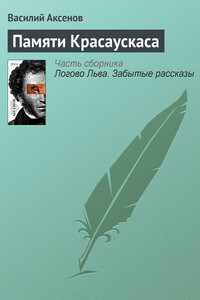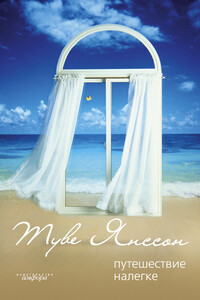"Батюшкин грех" и другие рассказы | страница 16
Провожу я краткий православный ликбез Константиновне, а сам все думаю, когда же она меня спросит, чего это я Энгельса в «о здравии» не помянул. Вижу, что вопрос этот она задать хочет, но стесняется. Пришлось самому:
— Скажите, а что это за имя такое «Энгельс»?
— Да родители так младшего брата назвали.
— Что, такие рьяные марксисты-ленинцы были? — поинтересовался я.
— Да нет, батюшка, — смутилась Константиновна, — иная причина приключилась.
Бытовая. Как-то и рассказывать неудобно. Приспособленцами назовете.
Я все же настоял, тем более что мне еще выяснить надобно было, крещеный этот Энгельс или нет.
Поведала мне старушка следующее.
В конце 30-х годов, как раз перед войной, ее младший брат родился. Семья большая была, учительская. В то время к учителям, особенно к тем, кто иностранные языки знал и в больших городах жил и работал, у власти предубежденное мнение было. Сказалась всеобщая шпиономания и поиски врагов народа. Знали носители «разумного, доброго, вечного», что их многих коллег уже нашла знаменитая 58-я, «контрреволюционная» статья, по которой миллионы в лагеря сибирские ушли, да там и пропали. Страх за собственную жизнь, за судьбу детей всех сковывал, заставлял лицемерить, придумывать средства защиты от доносов и клеветы.
Когда младший в семье родился, а отец прослышал, что его персоной в органах заинтересовались и характеристику в школе затребовали, решил он патриотизм проявить и свою «любовь» и лояльность к власти показать. На очередном учительском собрании в городском отделе образования громогласно объявил, что назовет своего новорожденного сына именем Энгельс, в честь великого классика марксизма-ленинизма, чтобы оно всегда напоминало ребенку о партии Ленина — Сталина.
Неизвестно, помог ли этот поступок избавиться отцу от НКВД, но до войны «воронок» к их дому не приехал, да и Великая Отечественная скоро началась. Отца сразу забрали на фронт, а через пол года похоронка пришла.
Мальчишка же со звучным именем Энгельс благополучно годы военные пережил и до старости дожил.
— Крещеный он? — спросил я у старушки после ее рассказа.
— Да кто же его крестил? — ответила она вопросом на вопрос.
И добавила:
— Тогда и церквей-то рядом уже не было, да и не принято было в учительских семьях крестить.
Объяснил я Константиновне, что нельзя в храме Божьем на богослужении имя ее некрещеного брата зачитывать, хоть и не по своей воле он его получил.
— Вы спросите у брата, — сказал я в завершение нашего разговора, — может быть, желает он святое Крещение принять? Тогда и молиться о нем мы вместе сможем.