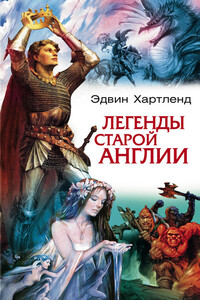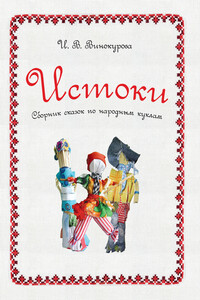Народная демонология Полесья. Публикации текстов в записях 80-90-х гг. XX века. Том II. Демонологизация умерших людей | страница 74
с. Олбин Козелецкого р-на Черниговской обл., 1985 г, зап. Е. Е. Левкиевская от Марченко Пелагеи Дмитриевны, 1920 г. р.
№ 311. Один человек абмирау у Пэрэписи. Заснуу, доуга спау Праснууся и так га-ворыть: «Работу мне загадали: атнести стоу да крыницы (таки калодец на лугах) и абрубить тую крыницу и пазвать свяшчэнника и паслужыть акахвист». [А душа у него выходила?] — Душа нэ выйшла, наверно.
с. Хоробичи Городнянского р-на Черниговской обл., 1980 г., зап. А. Б. Ключевский от Високос Анны Львовны, 1914 г. р.
№ 312. Жыл чэловек. Було у него две дочки. Ну и тэпэр старша дочка и намыкала мычок у Раздьвяны дэнь, ужэ кончилось Ражэственьска сьвятка. И тоди села прясти. От, распинаецца жэншчына под окном: «Добри дэнь!» Она кажэ: «Здраствуйтэ!» — «Прядэш?» — «Пряду!» — «А я, кажэ, з Ардани йду». Ну и заболела вона [дочь], и легла, годи прясти, годи рабить. Легла на печ и заснула. Дак трое суток спала. И яе ужэ убрали, як покойника. Ну и привели батюшку ужэ хоронить, а батюшка сказау: «Хоронить нэ буду, у неё пульс работае, она, кажэ, спить». И тры разы так. Ну, и устала и давай расказвать, як ужэ яе водиу один дедок старэнький. Ну як кому йе, як хто заробиу, так [на том свете] и получае. Ну, дедок той расказвае: шчэ тые жыви, а ужэ усим готово. Вона хотела остацца, а он кажэ — не, шчэ тоби не врэмья. Там и лампадки, каа, горять, и сидить тая жэншчына [что приходила под окно] (...) От дедок старэнький взяу за руку и вэдэ. А тоди ужэ доуго нэ жыла [дочь], пасля того умерла.
с. Ковчин Куликовского р-на Черниговской обл., 1985 г., зап. М. Н. Толстая и М. А. Бобрик от Халимон Оксаны Яковлевны, 1897 г. р.
Глава 9. ПОКОЙНИК
Параллельно с поверьями о душе как об особой, слабо мифологизированной субстанции, которую представляет собой человек после смерти, в полесской, как и во всех славянских традициях, существует представление об иной субстанции, являющейся эквивалентом умершего человека, которая обычно называется покойником. Этот параллелизм, нерасчлененность представлений о посмертной сущности человека заложены в самой традиции и, как правило, не осознаются самими носителями традиции как противоречие. Поэтому в рассказах одного и того же информанта умерший может осмысляться то как бестелесная душа, то как гораздо более материальный покойник. По уровню мифологизации и степени демоничности, а также по ряду своих релевантных признаков и функций покойник в гораздо большей степени, по сравнению с душой, описывается как мифологический персонаж. Это выражается, прежде всего, в том, что в рассказах умерший ведет себя уже не в соответствии с особенностями своего личного характера, а в соответствии с теми категориальными особенностями поведения, которые присущи в традиции «иномирному» персонажу. На условной шкале мифологизации представления о покойнике находятся между представлениями о душе и «ходячем» покойнике. Важной характеристикой покойника является его амбивалентность: по ряду мотивов покойник и душа выступают как синонимические, взаимозаменяемые образы, схожие по своим признакам и проявлениям, однако по другим своим признакам и присущим ему мотивам покойник в гораздо большей степени уподобляется «ходчему» покойнику.