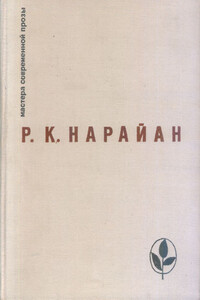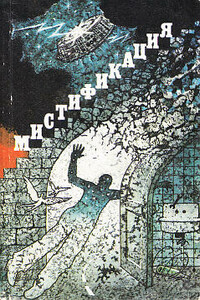Народная демонология Полесья. Публикации текстов в записях 80-90-х гг. XX века. Том II. Демонологизация умерших людей | страница 12
Полесские представления о посмертном существовании человека содержат две универсальные антиномии, характерные для осознания посмертного бытия человека в общеславянской картине мира.
Первая антиномия связана с вопросом о том, какую физическую природу имеет человек после смерти. В славянской традиционной культуре онтологически заложена двойственность, нерасчлененность представлений о том, в какой сущности пребывает человек после смерти, особенно в переходный (обычно сорокадневный) период, когда он еще может посещать свой дом и в той или иной форме контактировать с живыми людьми. С одной стороны, существует четкое представление о том, что в момент смерти бессмертная душа отделяется от смертного и тленного тела и в дальнейшем человеческая личность существует лишь в виде бестелесной души. Поэтому все посмертные проявления покойника (приход в дом, явление родным, странствия в сорокадневный период, потребность в питье, еде, умывании) суть действия его души, что передается в текстах устойчивыми клишированными формулами: душа ходит, летает, сидит за образами, умывается и пр. С другой стороны, параллельно с этим посмертная сущность человека описывается как покойник, который, в отличие от души, осмысляется как некий посмертный эквивалент человека и воспринимается как более материальная сущность, обладающая гораздо большей степенью мифологизации, чем душа. В частности, в отличие от души, покойник в загробном мире сохраняет все индивидуальные прижизненные привычки и потребности, — это представление поддерживается обычаем класть ему в гроб вещи и предметы, которыми он пользовался при жизни (трубку и табак курящему, водку пьющему, костыль хромому, очки тому, кто плохо видел и т. д.). По сравнению с душой, покойник осмысляется как более опасное и вредоносное для живых существо, способное «утянуть» за собой все хозяйство. Благодаря такой двойственности этиологии умершего человека, в полесских текстах (впрочем, это свойственно всей славянской традиции) в одних и тех же ситуациях он описывается то как душа, то как покойник, человек. Ср.: сорок дней [после смерти] чо-ловек живе у хате (Замошье лельч. гомел.); душа дванаццать дэнь [после смерти] ув домы (Чудель сарн. ровен.); у сорок день прыходит покойник сюда (Вышевичи радомышл. житом.); душа ховаецца по кутках хаты дванаццать дэнь (Ласицк пинск. брест.). Данная двойственность поддерживается представлением о том, что душа может принимать облик умершего человека и появляться в его смертной одежде, а также целым рядом аналогичных мотивов, через которые умерший человек описывается то как душа, то как покойник: душа/покойник странствуют в сорокадневный период после смерти; душе/покойнику тяжело, если по ним слишком тоскуют и плачут родные; пока душа/покойник находятся в доме, нужно соблюдать запреты на работу (не белить, не прясть, не мыть полы, не стирать), чтобы не повредить им и т. д.