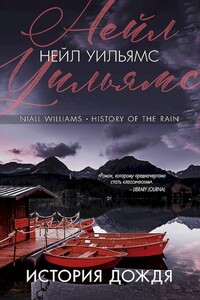Ебаная сука в обосранных трусах | страница 44
– Бери полотенца, – скомандовал он, не глядя на меня и указывая на дверь.
– Сколько?
– Откуда я знаю? Возьми сколько-нибудь. Сколько сможешь унести. Видимо, это будет не слишком много.
Такую работу, как моя, обычно выполняли мальчики, имевшие какой-нибудь физический недостаток, потому что в спортивной жизни должны были участвовать все, а это было единственным, что могли делать инвалиды. Наверняка, пока я шел к двери, Квакенбуш смотрел мне вслед: не хромаю ли я. Но я знал, что его тусклые черные глаза мой изъян обнаружить не смогут.
В конце дня, когда мы стояли на плоту перед гребной базой, собрав использованные полотенца, он немного смягчился.
– Ты ведь никогда не занимался греблей. – Разговор он начал ни с того ни с сего, и это не было вопросом. Голос его звучал почти нарочитым басом, как будто он говорил через какую-то трубу.
– Нет, никогда.
– Я два года выступал в команде легковесов. – Он был низкорослым, но крепко сбитым, под облегающей спортивной фуфайкой угадывались крепкие мускулы. – Зимой я занимаюсь борьбой. А ты чем зимой занимаешься?
– Да не знаю, пробую работать администратором еще где-нибудь.
– Ты же в старшем классе учишься?
Он прекрасно и сам это знал.
– Ага.
– Поздновато начинать заниматься администрированием команды, нет?
– Ты считаешь?
– Конечно, черт возьми! – Он вложил в свои слова презрительную убежденность, призванную на корню заглушить во мне любые ростки самоуверенности.
– Ну это не так уж важно, – возразил я.
– Очень важно.
– Я так не думаю.
– Иди ты к свиньям, Форрестер. Кто ты такой, в конце концов, черт возьми?
Я развернулся к нему лицом, мысленно издав стон. Квакенбуш не собирался позволить мне просто автоматически выполнять для него работу. Похоже, нам предстояло сойтись в схватке. И теперь мне было легко понять почему. С первых своих шагов в Девонской школе Квакенбуш столкнулся с неприязнью, с тем, что его походя, равнодушно оскорбляли; из года в год голосуя за лидеров класса и рукоплеща им, он не снискал для себя ничего из того, о чем мечтал. Я не хотел добавлять ему унижения, я даже сочувствовал распиравшему его изнутри и постоянно задеваемому самомнению, которое он уже не в силах был сдерживать, его бешеной заносчивости, которая выплеснулась наружу теперь, при малейшем намеке на несогласие со стороны найденного наконец человека, которого он мог считать ниже себя. Я понимал, что его поведение объяснимо, и не сказанные им слова взбесили меня, а то, что он не имел никакого представления о цыганском лете, об утрате, которую я мучительно старался пережить, о полевых жаворонках, плеске реки и ветерке, несущем цветочные лепестки, что он не видел улиток Чумного и даже не слыхал о хартии Суперсоюза самоубийц; он ни в чем не участвовал, ничего не знал и не чувствовал ничего из того, что знал, чувствовал и придумывал Финеас.