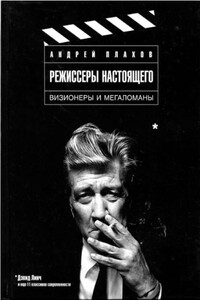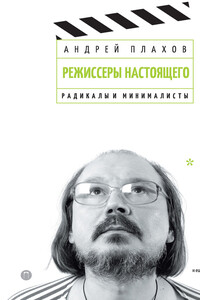Каннские хроники. 2006–2016 | страница 61
Обычно не принято фиксировать внимание на неких непроизвольно возникающих в фестивальном контексте лейтмотивах. Но в этом году был как минимум один по-настоящему уникальный лейтмотив, который случайным не назовешь. И у Триера, и у Гаспара Ноэ, и еще в двух-трех конкурсных картинах есть сцены, где дети застают своих родителей в момент соития, и это становится причиной губительной детской травмы. Насилие распоряжается жизнью и демонизирует ее уже в самом животворящем ее истоке. Ну разве это не ново?
Е. Гусятинский. Ну да, «первосцена», о которой еще Фрейд все написал. Ничего уникального тут нет. Не согласен по поводу лейтмотива «детской травмы». У Триера мальчик вываливается из окна не потому, что застает родителей во время секса (тогда это прямо самоубийство!), а просто потому, что они в этот момент, естественно, поглощены собой – настолько, что не могут усмотреть за ребенком, забывают о нем, выключаются из реальности. Из-за этого природного эгоизма – когда во время сексуального удовольствия не думаешь ни о чем другом – героиня и калечит свои половые органы. Она винит во всем секс, похоть и человеческую природу в целом, но ребенок умер по чистой случайности – именно так, кстати, и показана его гибель.
Вообще очень соблазнительно подверстать все каннские фильмы под одну концепцию, к тому же такую вместительную и всеобъемлющую, как насилие и зло, но, по-моему, вы передергиваете. При чем тут Рейгадас с его «Тихим светом»? Где там абсолютно конкретное физическое насилие, которое обрушивают на нас Триер, Пак Чхан Ук, Мендоса, Тарантино?
В трансцендентной истории о любви – физической и божественной? Насилие – это вообще родовое пятно кинематографа, который всегда использовал его как самодостаточный аттракцион, существующий по ту сторону морали. И сегодня «эстетизацию насилия» сложно преодолеть – даже когда кино пытается говорить о философии насилия, о его экзистенциальной сущности, как в чересчур, на мой взгляд, аттракционных фильмах Триера и Мендосы. Я уже не беру Пак Чхан Ука, который снял чистый гиньоль, или Тарантино, почти отказавшегося от своей фирменной жестокости… чтобы подразнить тех, кто ожидал, что «Бесславные ублюдки» будут «кровавым мочиловом». Игра в насилие, отстранение от него при помощи иронии или при помощи отсутствия иронии, свобода в обращении с ним как с жанром или кубиком для жанровых конструктов, насилие как дизайн – во всем этом я скорее вижу потерю чувствительности к этой, вне всяких сомнений, важнейшей онтологической проблеме.