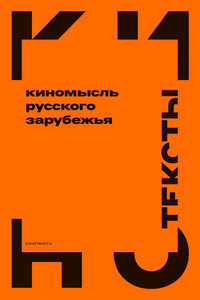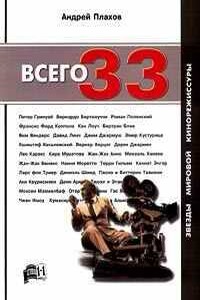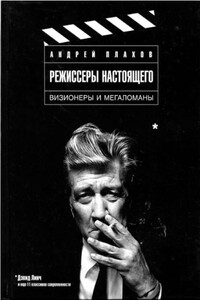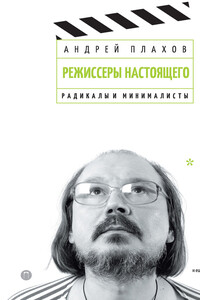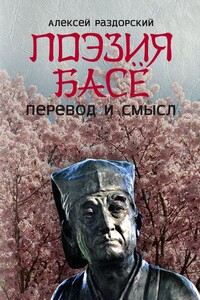Каннские хроники. 2006–2016 | страница 43
. «Постмодернизм» Эгояна – двойное повествование, сюжеты-ребусы, истории-матрешки, игра с медиа и «новыми формами изображения» – не просто устарел, но проскочил сквозь 1990-е, когда такие конструкции не мыслились без иронии и ироничной дистанции.
Н. Зархи. С таким важничанием пустотелой формы часто, мне кажется, сталкиваются – в конце концов – художники, во что бы то ни стало нацеленные на метафизику… Озабоченные только трансцендентным. Проживи, извините за кощунство, еще лет десять даже сам Тарковский, он бы, может быть, как и Вендерс, оказался перед лицом кризиса.
Л. Карахан. Наше расхождение в том, что вы стараетесь выделять фильмы в общем контексте, а я – укладывать их в общий каннский пазл. Мне иногда даже кажется, что режиссеры только для того и снимают свои фильмы, чтобы попасть в уже отведенную им закономерностями развития мирового кино каннскую ячейку.
Н. Зархи. Натяжка, по-моему. Фильм Гарреля, скажем, попал в прошлом году на Московский фестиваль с Венецианского – как ты можешь выводить какие-то каннские – эксклюзивные – закономерности из винегрета индивидуальных художественных биографий?
Л. Карахан. Винегрет представляют собой только индивидуальные биографии, не способные выразить актуальные закономерности в развитии кино.
Е. Гусятинский. Мне кажется, все проще. Канны зависимы от статусных, «номенклатурных» режиссеров и, к сожалению, не могут сказать «нет» Вендерсу, Эгояну или Гаррелю. Несмотря на то что на этот раз они сняли запредельно плохие картины.
Н. Зархи. Конечно.
Е. Гусятинский. В этом сказалась слабость фестиваля, особенно на фоне празднования мая 1968-го. Ведь по этому поводу можно было бы радикализировать конкурс, отказавшись от этих откровенно провальных, претенциозных, пустых картин статусных режиссеров. Сделать упор на неформатное, более неопределенное и менее глобальное, как раз таки «антиметафоричное» – реальное – кино, которое оказалось в «Особом взгляде». Например, «Голод», дебют современного британского художника Стива Маккуина, показанный на открытии «Особого взгляда» и получивший «Золотую камеру». По-моему, это один из лучших фильмов фестиваля. Если бы Фремо обладал кураторской смелостью и независимостью, он бы, конечно, поставил его в конкурс. Это ярчайшее режиссерское кино, предельно конкретное, но сделанное буквально из трех касаний, именно касаний, а не ударов, но эти касания отправляют зрителя в нокаут. Сюжет – голодовка членов ИРА в ирландской тюрьме в 1982 году, которая привела к гибели пятидесяти человек. Основано на реальных событиях, а сделано, как современное искусство, практически без текста, на основе трех сцен-инсталляций, невероятно сильных по своей визуальной природе. Но этот игровой перформанс постепенно превращается в документ, свидетельствующий не только о перечисленных фактах. Ты видишь не просто информацию о том, что произошло в таком-то году и в таком-то месте, как в фильме «Гоморра». У Маккуина факты свидетельствуют о чем-то большем. Например, о том, что такое революция вообще – ты понимаешь, что люди сражаются уже не за независимость Ирландии, а за внутреннюю свободу. Вот, кстати, абсолютно «левый» сюжет, разыгранный жестко, без компромиссов – эстетических, коммерческих и прочих. Но в итоге – всего лишь «Особый взгляд». Или замечательная картина Дрезена – никаких претензий на метафизику и на метафору. Но при этом и второй, и третий план там возникают.